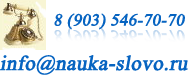Любовь как высшая христианская добродетель
Тесная связь двух основополагающих догматических учений – триадологии и христологии – с антропологией устанавливается в православном богословии через учение о творении человека по образу и подобию Божию (1), а также через учение о творении мира из ничего (2). Бытие единосущных Лиц Пресвятой Троицы задает для православной антропологии абсолютный идеал совершенного личностного бытия, к которому призвано все человечество (3). Доступ к этому идеалу открыт человеку Вторым Лицом Пресвятой Троицы – Сыном Божиим, свидетельствующим о Себе: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин.,14,6). Ведь став человеком, Сын Божий осуществляет Свое человеческое бытие тем же совершенным личностным способом, каким Он осуществляет бытие Божественное. Именно о таком способе бытия «умоляет» апостол Павел коринфян, когда пишет им: «подражайте мне, как я Христу» (1Кор.,4,16). Этот личностный способ бытия означает то единение с ближними, о котором говорит Господь, характеризуя Страшный суд: «что вы сделали одному из...братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф., 25,40. Перевод наш – С.Ч. Ср.: Мф.,25,45). Личностное единение с ближними по образу единства Божественных Лиц представляет собой единение в самоотверженной любви и выражается в жертвенном служении: «Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф.20:28. См. также: Мк.,10,45). Именно в любви, «которая есть совокупность совершенства» (Кол.3:14), достигает своего высшего выражения личностный образ бытия человека. Именно учение о любви представляет собой вершину православной этики. В той любви, к которой способны только личности, только те, кто осуществляет свое бытие личностным способом по идеальному абсолютному образцу Лиц Пресвятой Троицы, человек превосходит пределы своей индивидуализированной природы, актуализируя все существенные характеристики личностного образа бытия и в полной мере обретая личностное совершенство. К личностному единству в любви призывает Господь Своих последователей: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» (Ин.,13,34). Такое единство в любви Господь выделяет в качестве характерного признака Своих учеников: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин.13:35). С прошением о таком личностном единении христиан в любви обращается Господь к Отцу в Первосвященнической молитве: «да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино» (Ин.,17,21). Личностное единение в любви предполагает отказ от какой бы то ни было индивидуалистической замкнутости, от самого индивидуалистического образа бытия и носит, поэтому, жертвенной характер: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих», – говорит Христос Своим ученикам в прощальной беседе (Ин.,15,12–13). Именно жертвенность выделяет апостол Павел в качестве важнейшего показателя подлинности и достоинства своего служения: «От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного; три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской; много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах» (2Кор.,11,24–28). Более того, осуществляемый в личностной любви выход за пределы индивидуализированной природы, вовлеченной в результате грехопадения в разнообразные процессы старения и распада, означает для человека преодоление власти «последнего врага» (1Кор.15:26) - смерти: «Мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев; не любящий брата пребывает в смерти» (1Ин.,3,14). Богословское понимание любви в тварном мире исходит из учения о Пресвятой Троице. Любовь между тварными существами – людьми – свидетельствует об абсолютной любви единосущных Лиц Пресвятой Троицы, предполагая Их совершенную любовь как свой источник и свою основу: «будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь», – пишет евангелист Иоанн (1Ин.,4,7-8. Ср.: 1Ин.,4,16-17). При этом, как утверждает апостол Павел, именно от Отца «Господа нашего Иисуса Христа» «именуется всякое отечество на небесах и на земле» (Еф.3,14-15). Особое значение для характеристики личностного образа бытия имеет в православном богословии понятие общения (koin?n?a). К сожалению, русскоязычным христианам сложно осознать важность этого слова для православной антропологии, поскольку в Синодальном переводе Нового Завета оно передано в различных контекстах пятью разными русскими словами: общение (4), приобщение (5), общительность (6), участие(7), подаяние (8). Вся полнота возможностей актуализации личностного образа бытия в единстве общения, представляющем собой единство любви, дана человеку в Церкви: «Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас», – свидетельствует Господь (Ин.,14,20). Личностную полноту общения (koin?n?a) со Христом и во Христе со всеми верующими человек обретает в таинстве Евхаристии: «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение (koin?n?a) Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение (koin?n?a) Тела Христова?» (1Кор.,10,16.Ср.:1Кор.,1,9; 1Ин.,1,7). Особые возможности для достижения полноты личностного общения даруются человеку также в таинстве брака (9). При этом опыт полноты Евхаристического единства в общении любви человек призван распространить на всю свою жизнь, на весь спектр своих отношений с ближними. Апостол Павел, выражая это призвание человека, употребляет слово общение в новом, в древнегреческих текстах не встречающемся значении. В своих посланиях он называет этим словом пожертвования для обедневших Иерусалимских христиан, собиравшиеся им в ходе миссионерской деятельности (10). В богословском понимании личностный образ бытия означает ту полноту совершенства, к которой призывает человека Господь: «будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф.,5,48). Ясное осознание этого призвания задает четкую аксиологическую перспективу, позволяя человеку расставлять в конкретных жизненных обстоятельствах богословски обоснованные приоритеты, иерерхически структурирующие весь его опыт. Богословский концепт личностного образа бытия становится, таким образом, системообразующей основой для педагогической работы как на уровне естественного состояния человека, так и на нижеестественном уровне. При этом для человека нецерковного пределом совершенства в личностной богословской методологической парадигме оказывается естественное состояние, предполагающее минимизацию страданий или – в аскетической терминологии – страстей, связанных с грехом, греховными мотивами и влечениями. Для такого состояния характерны также психологическая устойчивость, адекватность и социальная активность. «Если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?», – говорит об этом доступном и вне Церкви уровне Господь» (Мф.,5,46-47). Однако и люди нецерковные – атеисты, агностики, язычники и строгие монотеисты – нередко осознают и остро переживают узость традиционных естественных установок и ценностей социальной адаптированности, достатка и процветания. В ситуации личностного кризиса человека важнейшей задачей для православных педагогов и психологов становится помощь в осознании того снижения онтологического статуса бытия, тех зависимостей и страданий, которые неразрывно связаны с переходом к нижеестественному страстному образу существования. Особую актуальность приобретает также выработка критериев и конкретных форм трансформации образа жизни человека, обеспечивающей устойчивость на онтологическом уровне естественной добродетели с высокой сопротивляемостью скольжению на нижеестественный уровень и в то же время оставляющей открытой перспективу того личностного роста в превосхождении собственной индивидуализированной природы, к которому призывает Господь: «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф.,5,44. Ср.: Лк.6,27-36). При этом именно в самоотверженном служении, в жертвенной любви человек обретает личностную целостность. «Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную», – утверждает Господь (Ин.,12,25). Приближаясь в любви к полноте личностного образа бытия, человек утверждает и сверхприродную личностную идентичность тех, кого он любит. Личностная целостность человека в полной мере сохраняется и при восприятии нетварных благодатных энергий, то есть в состоянии об?жения. Важной характеристикой личности человека, предполагаемой богословским пониманием любви, является свобода (11). Эта характеристика личностного образа бытия следует, в первую очередь, из положения об онтологической первичности личности по отношению к природе, предполагаемого учением о Пресвятой Троице. Человеческие личности, представляющие собой образ Божественных Лиц, актуализирующие этот образ в своем бытии и обретающие, таким образом, подобие Божие, не детерминируемы ни видовой природой с ее потребностями, ни природой индивидуализированной, ни окружающей социально-культурной средой. «За Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание», – поют сыны Кореевы (Пс.,43,23). «Лисицы имеют норы и птицы небесные – гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову», – свидетельствует о Своей личностной свободе Иисус Христос (Мф.,8,20.То же: Лк.,9,58). Полнота христианского, то есть обретаемого в общении со Христом, личностного образа бытия предполагает превосхождение индивидуализированной природы с ее достоинствами и совершенствами. «Посмотрите, братия, кто вы, призванные», – обращается к коринфянам апостол Павел. «Не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных», – констатирует он (1Кор.,1,26). Но ведь христиане призваны к личностному совершенству по образу Божию, призваны – другими словами – к совершенству несопоставимо большему совершенства природного: «Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, – для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом» (1Кор.,1,27-29.Ср.:Пс.,19,8;Иер.,9,23-24). Именно такое личностное совершенство даруется христианам Богом Отцом «во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением» (1Кор.,1,30). «Вы куплены за полную цену», – напоминает апостол Павел, призывая: «не становитесь рабами людей» (1Кор.,7,23. Перевод наш – С.Ч.). Ведь «раб, призванный в Господе, есть свободный Господа» (1Кор.,7,22). «Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?», – спрашивает апостол Павел в другом послании (Рим.,8,35). И чтобы исключить всякие сомнения в риторическом характере этого вопроса, сразу же дает ответ: «Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим.,8,38-39). Богословское понимание свободы человека связано также с учением о творении мира из ничего. В самом деле, мир, а значит – и человек, сотворены Богом из ничего, – следовательно, личность не детерминируется и Божественной природой. При этом личностная свобода человека в ее богословском понимании тесно связана с личностной уникальностью и идентичностью. В положительном смысле личностная свобода не сводится к свободе выражения индивидуальных качеств. Личность свободно определяет сам личностно уникальный образ существования своей индивидуализированной природы. Личностная свобода, понимаемая как онтологическая первичность личности по отношению к природе, личностная свобода, осуществляемая – при таком понимании – за пределами какой бы то ни было природной необходимости, предполагает и парадоксальный для обыденного сознания отказ от собственной воли, рассматриваемой в православном богословии как функция природы. Такое отношение к воле лежит в основе традиционной православной аскетической практики послушания и отсечения воли (Лк.,22,42; Ин.,5,30; 6,38). Именно принципиальная установка на детерминирующий и объективирующий подход к человеку, нацеленный на изучение его природных характеристик и не позволяющий, таким образом, выразить личностную свободу как несводимость человеческой личности к природе, можно выделить в качестве одной их главных причин трудностей и неудач секулярной педагогики и психологии. При этом проблема конфликта социального детерминизма со стремлением человека к свободе может быть разрешена только при условии богословского понимания личности, при котором свобода человека рассматривается не в плане его индивидуализированной природы, ограниченной как самой тварностью, так и другими индивидами, а в плане личности, способной в общении с Богом и ближними личностно свободно задавать способ бытия своей природе, уподобляясь, тем самым, Божественным Лицам. «К свободе призваны вы, братия», – напоминает апостол Павел. А чтобы реализовать это призвание, «любовью служите друг другу», – продолжает он (Гал.,5,13). Как же осуществляется служение любви в той полноте личностной свободы, которая настолько превосходит свободу индивидуального самоутверждения, что по существу дела несоизмерима с ней? Апостол Павел поясняет это на конкретных примерах. «Об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме Единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, – но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им», – пишет он (1Кор.,8,4-6). При этом: «Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем» (1Кор.,8,8. Ср.:1Тим.,4,8). «Берегитесь однако же, – предупреждает апостол Павел, – чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных» (1Кор.,8,9). Ведь «не у всех такое знание: некоторые и доныне с совестью, признающею идолов, едят идоложертвенное как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется» (1Кор.,8,7). Но тогда «если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа» (1Кор.,8,10-12). «И потому, – заключает апостол Павел, – если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего» (1Кор.,8,13).Актуализация личностной свободы несовместима ни с каким индивидуалистическим обособлением, ни с каким пренебрежительным отношением к человеку, как бы слаб и наивен он ни был. «Судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну», – призывает римлян апостол Павел (Рим.,14,13). Например, он знает и «уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого; только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто» (Рим.,14,14). Но если «за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь». «Не губи твоею пищею того, за кого Христос умер», – требует, поэтому, апостол Павел (Рим.,14,15).