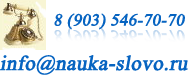О принципах изучения религиоведческих источников
Озмитель Е.Е., доцент кафедры мировых культур и религий ЮНЕСКО Кыргызско-Российского Славянского университета (Бишкек), Кыргызстан, кандидат исторических наук
Изучение религиоведческих дисциплин в современной системе высшего образования предполагает, как правило, позитивистский историко-генетический и компаративный социокультурный анализ религиозных феноменов, сосредотачиваясь на исследовании религии извне. Так религия превращается в тип мировоззрения, систему ценностей, или в один из элементов социальной, художественной жизни, в институт, политическую силу и тому подобное. Самое существенное, что исчезает из поля зрения преподавателя при абсолютизации такого подхода – это специфика религиозного опыта, миросозерцание верующего человека, именно то, что, собственно, и определяет сущность и уникальность всех религиозных феноменов. Опосредованное изучение религии (как одной из форм культуры) должно дополняться исследованиями религиозного опыта, то есть, внутреннего содержания религии. Какие методики позволяют это делать? Включенные и невключенные наблюдения, опросы, анкеты, интервью – все это практическое исследование религиозного опыта полезно, но не всегда применимо. Самым действенным способом «проникновения» в религиозный опыт является анализ письменных источников, под которыми мы подразумеваем и сакральные тексты, и письменные свидетельства интеллектуальной рефлексии религиозного сознания.
Без изучения источников религиоведческое преподавание обречено на «разговор не о том». Религия, будучи идеологией, провоцирует критическое отношение к себе со стороны других идеологий, поэтому опосредованное изучение «извне», по трудам философов, религиоведов и т.п., чаще всего оказывается не объективным исследованием, а политическим или идеологическим мероприятием. Политика и идеология в выборе средств не гнушаются – здесь и подтасовки, и некорректные обобщения, и мистификация, и прямая ложь. Современное русскоязычное религиоведение тянет из своего «атеистического» прошлого в учебники и научную литературу груз предрассудков и суеверий.
Но и объективный позитивистский аналитический подход к религиозным феноменам оказывается недостаточным. На этом уровне в лучшем случае возможно честное описание, констатация фактов, фиксация тех или иных параметров. Компаративистские исследования могут выделить существенные из них, но интерпретация полученных данных не возможна без исследования «мнения религии о самой себе», то есть, без исследования источников.
И так, «аdfontes», «к источникам»! Сказать проще, чем сделать.
Для того чтобы исследовать религию изнутри, у студентов необходимо воспитать навык чтения, понимания и интерпретации богословских трудов, проповедей, молитв и других религиозных текстов. Добиться этого очень сложно, так как современный студент приходит в вуз, нередко не имея навыка чтения даже классической школьной и серьезной современной литературы. Непривычная лексика литературы богословской, ее усложненный синтаксис, чуждый строй мысли, незнакомый чувственный опыт, далекие от современной жизни проблемы – все это отпугивает не только студентов, но и преподавателей. Чтобы дать студентам ключи к богословской и другой религиозной литературе, изучение религии должно базироваться на следующих принципах: научность, эмпатия, культуросообразность, текстоцентричность.
Научность. Изучение религии в системе высшего образования должно быть научным. Говорить об этом очевидном факте приходится, потому, что принцип научности в киргизских вузах чаще всего, по нашим наблюдениям, нарушается. Причем, не со стороны апологетов той или иной конфессии, а со стороны атеистов, склонных по-прежнему отождествлять религиоведение с идеологией, а преподавательскую кафедру – с трибуной агитатора. При этом недостатки атеистического подхода редко становятся предметом обсуждения. В академической среде господствует унаследованное от советских времен отождествление понятий «светский» и «атеистический», и потому нередко считается, что атеистический подход – действительно научный подход, что только он приемлем в светском учреждении. Очевидно, что для такого отождествления нет никаких оснований.
Светский характер образования предполагает, что в процессе изучения религиоведческих дисциплин не совершаются культовые обряды, не ставится цель подготовки священнослужителей той или иной конфессии. Но это совсем не означает, что светское образование должно быть атеистическим. «Светский» значит «неклерикальный», «внецерковный» – эпитет этот может прилагаться к самым разнообразным культурным явлениям: образованию, законодательству, искусству. «Атеистический» означает «антирелигиозный», «безбожный», «отрицающий Бога и религию» и прилагается только к явлениям идеологической сферы: пропаганде, искусству, мировоззрению, мероприятию и пр. Чтобы почувствовать разницу этих понятий, сравним словосочетания «светское искусство» и «атеистическое искусство». Первое – искусство внецерковной, нерелигиозной тематики и проблематики. Второе – идеологическое искусство, ставящее своей целью борьбу с религией. Соответственно – «светская наука» и «светское преподавание» – это области интеллектуальной и воспитательной деятельности, для которых необходимы нерелигиозные цели и методы познания и преподавания. А «атеистическое преподавание» или атеизм как «наука», то есть, «научный атеизм» – это либо миф, либо идеологическая деятельность, направленная на борьбу с религией и формирование атеистического мировоззрения.
Именно атеистическое мировоззрение, а не религиозное делает невозможным научное изучение религии. Предвзятое отношение к религии мешает атеисту спокойно относиться к предмету своего исследования и потому даже позитивистское эмпирическое описание религиозных феноменов становится невозможным. Когда все мистическое, все сверхъестественное объявляется заблуждением или фальсификацией, религиозный опыт лишается своей специфики. «Многие, - по словам А.Ф. Лосева, - позитивизм изучения религии и мифа видят в насильственном изгнании из того и другого всего таинственного и чудесного. Хотят вскрывать существо мифа, но для этого сначала препарируют его так, что в нем уже ничего не содержится ни сказочного, ни вообще чудесного. Это или нечестно или глупо».(1)
Следующий принцип – принцип эмпатии,то есть,принятия, вчувствования, необходим для адекватного постижения смысла исследуемых текстов. Чуждый (в большинстве случаев) студентам религиозный опыт, который осмысливается в религиозных текстах, должен восприниматься как ценностно-значимый, а потому требующий серьезного, уважительного отношения к предмету изучения. Стереотипы атеистического мировоззрения нередко мешают преподавателям и студентам подойти к фактам истории религии как к самоценным общезначимым явлениям мировой культуры. Тенденциозность не позволяет им увидеть в авторах богословских трудов и концепций равноправных партнеров по диалогу, искренних, ищущих, мыслящих людей, знатоков человеческой психологии, настоящих творцов культуры.
Для того чтобы развенчать ряд атеистических и публицистических мифов, вызывающих негативное отношение к религии и к ее понятиям (таким как: «догмат», «консервативный», «ортодоксальный», «фундаментализм» и пр.), мы сознательно отказываемся от вовлечения в учебный процесс советской философской литературы по вопросам истории религии и богословия. Религиозный философ А.Ф. Лосев – редчайшее исключение. Труды других советских философов заражают студентов априорно отрицательным или пренебрежительным отношением к предмету исследования, что мешает им серьезно и объективно исследовать источники. Эмпатии можно поучиться у литературоведов и историков. С. Аверинцев, А. Панченко, А. Гуревич детально исследуя содержание древних и средневековых текстов, приближают нас к мирочувствованию их создателей.
Принцип культуросообразности предполагает, что преподаватель должен выбирать такое содержание и такие формы, методы и средства образования, которые соответствуют системе ценностей и потребностям студентов, не противоречат национальным культурным ценностям, традициям, духовному наследию и задачам будущей профессиональной деятельности. Применительно к религиоведческим дисциплинам культуросообразность – это, в первую очередь, соотнесенность образования с особенностями региональной религиозно-культурной ситуации. В выборе содержания учебного процесса – это преимущественное (преподавателю всегда приходится что-то выбирать и от чего-то отказываться) изучение конфессий, традиционных для данной местности. Не зная своей традиции, не понимая своего, близкого, того, что сформировало его как личность мыслящую, действующую и чувствующую, студент не может претендовать на адекватное понимание чужого религиозного опыта, некой религии вообще.
Культуросообразность также предполагает адекватность образования уровню культурного развития студентов. Учитывая низкую читательскую компетентность современного студента, приходится резко ограничивать число изучаемых источников, предлагать для обсуждения в аудитории выдержки и цитаты.
Текстоцентричность – принцип, который должен быть обязательно положен в основу проведения семинарских занятий и самостоятельной работы студентов, изучающих религию. Изучение конфессиональной истории, теоретических проблем философии, социологии и психологии религии мы дополняем чтением и обсуждением на семинарских занятиях разнообразных религиозных текстов. Имена авторов этих текстов должны быть облигаторными и общепризнанными. Это – те имена, которые упоминаются в параллельных учебных курсах, на которые ссылаются авторы учебников и монографий по истории и философии религии, исследователи истории и богословия.
Богословские тексты очень сложны для понимания, поэтому мы предлагаем вводить их постепенно. Сначала можно обсудить фрагменты из современных богословских трудов, энциклопедий и катехизисов, небольшие цитаты из средневековых источников. Потом возможным становится знакомство студентов с большими фрагментами богословской литературы. Организация семинарского занятия по принципу «вокруг текста» лучше всего позволяет преподавателю реализовать принцип эмпатии, о котором говорилось выше.
В работе с богословской литературой особое внимание следует обратить на то, что она изобилует терминами, которые невозможно заменить общеупотребительными словами. Необходимо сразу ориентировать студентов на запоминание таких терминов, постоянно – и на лекциях, и на семинарских занятиях – проводить с ними словарную работу, регулярно проверяя, как понимается, накапливается, и актуализируется студентами специальная богословская и религиоведческая лексика.
При изучении религиоведческих источников в учебном процессе можно использовать опыт преподавания иностранных языков: также необходимо готовить текст для домашнего чтения: выбирать фрагмент значимый и соответствующий уровню подготовки студента, подчеркивать в нем ключевые словосочетания, прилагать глоссарий трудных слов и вопросы для проверки понимания. Аудиторная работа с текстом также предполагает чтение вслух, ответы на вопросы преподавателя, комментирование ключевых положений. Работа трудная, но благодарная. Как правило, большинство студентов, с энтузиазмом относится к таким живым и творческим заданиям. Приобщаясь к религиозному опыту, они чувствуют, что лозунг «adfontes» становится для них лозунгом «к профессионализму».
Примечания
1. Лосев А.Ф. Диалектика мифа / Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991. С. 22.