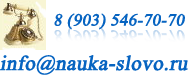Выбор веры как главный фактор становления Святой Руси
Как известно, государственность является существенным признаком любой развитой национальной политической системы. Данный термин употребляют не только когда говорят об историческом развитии государства, но и когда обращают внимание на характер его идеологии и духовной ориентации. Кроме того, символическими признаками автономной (независимой) государственности помимо языка и эмблематики выступают специфические формы политической организации общества, то есть формы правления, государственного строя, политических отношений и структуры власти. Принятие той или иной религии также свидетельствует о специфике становления и развития национальной политической системы, ее идеологии и ценностных ориентациях. Вот почему исследование проблемы выбора веры имеет особую теоретическую и практическую значимость для России.
Отечественная, как и любая другая вера, всегда идет в тесном согласии с развитием государственности и выступает ее идеологической основой. Все изменения, которые происходят на государственном уровне, напрямую связаны с изменениями в религиозно-политической мысли. Это мучительный поиск, направленный на органичное слияние институциональной подсистемы политической системы общества с окружающей социо-культурной средой. В основе данного поиска должны лежать нравственные категории и стремление сохранить целостное национальное лицо российской государственности.
Таким образом, возрождение лучших традиций национальной государственности, определяемых принятой верой, есть условие и основа выживания России и тех цивилизаций, которые несут в себе этнокультурное своеобразие. В этой связи, доктрина формационного подхода, свойственная ряду политических идеологий, выступает той силой, которая стремится разрушить историческую противоречивость цивилизаций, а значит уничтожить поступательный ход мировой истории, ибо данный процесс подчинен философскому закону единства и борьбы противоположностей. Отменить его мы не в силах. В этом столкновении сторонников формационного и цивилизационного подходов заключена главная парадигма развития национальной российской государственности. На этой почве построена реабилитация усилий тех государственников, которые стремятся совершенствовать Российскую федерацию, опираясь на её самобытные исторические традиции, вычеркнутые коммунистической и либеральной моделью.
Тысячелетнее господство языческой культуры у славян закрепило в их политическом сознании традиций прямой демократии вечевого характера. Славянская община и вся система православной монархической соборности на Руси стала не чем иным, как проявлением сущностных черт народной демократии, вписанных в социальные нормы православия. Этим объясняется их удивительная жизнеспособность.
Если бы восточные славяне до принятия христианства были тесно связаны с политической культурой романо-германских народов (как о том говорят современные «западники») (1), то упадок вечевой демократии у них должен наступить уже в эпоху Великого переселения народов и закончиться созданием собственной версии Салической правды где-нибудь в VІ-VІІ вв. А к Х в. Русь должна была бы принять западную версию христианства как более авторитарную и мало сочетающуюся с соборностью православной Церкви. Однако этого, как мы знаем, не произошло. Между тем политическая идеология восточных славян отвергала любую мысль о концентрации решающих властных полномочий в руках наследственного монарха. Это объясняется тем, что ими четко отстаивалась мысль, согласно которой не только народы, но и отдельные племена имеют право жить по своим законам.
Древнейшие известия на данный счет мы находим в византийских документах VІ в. Там сказано, что славяне «не управляются одним человеком, но издревле живут в народоправстве и от того у них выгодные и невыгодные дела ведутся сообща» (2). Те же авторы, указывая на склонность славян к прямой демократии, умалчивают о существовании у них какого-либо представительного органа власти.
Об этом же нам сообщает русская летопись: «поляне и древляне, северяне и радимичи, вятичи и хорваты имели обычаи свои и законы отцов своих и каждый свой норов. Сами собой владели…». (3) Правда, социальные свободы, порожденные республиканской формой правления, не привели восточных славян к духовному совершенству. Византийские и отечественные источники указывают на достаточно высокую степень безнравственности свойственной славянам в бытовой и политической сферах (4).
При этом археология и летописный материал обращают наше внимание на то, что авторитарные тенденции в большей мере были присущи только племени полян. Строгость власти увязывалась у них со строгостью морально-этических норм поведения. (5) Этим фактом можно объяснить причину резкого возвышения Киева после крещения Руси как политического центра полян над другими городами и превращение его не просто в столицу нового православного государства, а в «мать городов русских» - их духовный престол. Ведь, как известно, до Владимира Святого этот город не рассматривался в качестве постоянной столицы языческой Руси. Неслучайно Святослав хотел видеть главный город своего государства город в устье Дуная, куда стекались бы материальные, а не духовные ценности.
Появление варягов в середине ІХ в. не усилило позиции авторитаризма у восточных славян и не подняло их духовность. Ведь распространению принципов авторитарной власти на Руси в ІХ – Х вв. мешала не только вечевая традиция, но и национальная славянская религия. Усиление авторитарной власти могло идти только в союзе с авторитарной верой, способной доказать, что данный тип политических отношений угоден Богу. На статус государственной религии Руси тогда претендовали иудаизм, ислам, православие и католицизм. Все они оправдывали монархию как необходимое насилие способное подавлять господствующее в людях зло. В этом смысле они, безусловно, являлись политизированными религиями.
Принятие православия усилило политическое размежевание Руси со всеми народами, не вставшими на путь восточного христианства. Чем же эта вера привлекла власть и приобрела доверие общества, постепенно создав из Киевской Руси Русь Святую? Ответив на этот вопрос, мы поймем, почему отечественная политическая мысль старалась не только избегать новаций в области социальных преобразований, но и развивала в себе дух мессианства, никогда не позволяя смотреть на Русь как на периферию мирового развития. Дело в том, что православие было меньше всего связано с меркантильными ценностями человеческого мира, который мыслился им как «похоть плоти, похоть очей и гордость житейская».
Так, например, иудаизм давал широкие социальные свободы только евреям. Поэтому в иудейской стране граждане иных национальностей с рождения автоматически становились неполноправными. Они лишались права иметь свое политическое представительство, способное отстаивать их интересы перед высшей властью. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить судьбу Хазарского каганата (6). К тому же на евреев смотрели как на продажных людей, предавших нравственный закон ради материальной наживы и потому отвергнутых Богом и в наказание рассеянных по другим странам. Об этом еще в середине XI в. писал митрополит Иларион в «Слове о Законе и Благодати». Согласно же летописной версии, Владимир на предложение принять иудаизм дал исчерпывающий ответ: «…как вы мните себя учителями, отверженные от Бога и рассеянные. Если бы Бог любил вас и закон ваш, то не были бы вы рассеяны по чужим землям. Или нам мыслите тоже принять?». (7)
Исламская вера вроде бы открывала двери всем людям в рай и не препятствовала созданию национального правительства. Однако ислам проигрывал христианам спор о нравственности. Призывая к спасению души, он попутно тешил плоть, разрешая многоженство, оправдывал роскошь и торговлю. Со времен арабского халифата ислам не знал такой социальной категории как «мирное население». В течение восьми месяцев в году мужчина имел разрешенное Кораном право вести войну и присваивать имущество «неверных» (8). Любовь (жертвенность, всепрощение), ставшая центральной категорией христианства была подменена ветхозаветным правилом мести: «око за око, зуб за зуб».
Принцип соборности так близкий вечевым традициям славян уступил место абсолютизму, позволившему соединить в руках халифа всю полноту высшей светской и духовной власти. Все это в совокупности повлияло на то, что в исламе не сложилось института высокой духовности в лице монашества с его доминирующим стремлением к исихастскому общежитийному устройству. Аскетизм также остался чужд исламу. В итоге гуманистические принципы ислама не смогли оказать того влияния на власть и общество, которое в последствие оказало православие.
Сложнее современному читателю понять причины неприятия католической веры. Ведь к концу Х в. христианская Церковь формально оставалась единой. Казалось, идти надо было в сторону расцветающего Запада, а не загнивающей Византии. К этому времени, если не считать доживавшего последние дни Западно-болгарского царства, только одна Византия представляла свободный православный мир. Тогда как территории подвластные папе римскому охватывали огромные пространства Европы, во главе которых стояла Священная Римская империя.
По мнению Е.Т. Гайдара, разделившего точку зрения В.К. Кантора и Г.Г. Шпета (9), Русь, не приняв католичество, «оказалась культурно, религиозно, политически и идеологически отделенной от того центра инноваций, которым во все большей степени становится Западная Европа... Следствие – нарастающее ограничение культурного обмена, возможностей заимствования нововведений, подозрительность, изоляционизм» (10).
Яркое объяснение того, почему Русь не приняла западное христианство мы находим у митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева). Он писал: «Если для России Господь наш Иисус Христос, то у Запада бог совершенно иной - это князь мира сего, бог наживы и беспредельного эгоизма, бог тщеславия и корысти». (11) Таким образом, главное отличие между восточным и западным христианством проходило по линии формального и реального отношения к вере. Католичество упрощенно решало вопрос спасения души и потому в глазах преданных сторонников Христа повторяло предательский путь иудеев. Ведь «западный человек понимает спасение как воздаяние за добрые дела. Спасение «зарабатывается» им путём добродетельного труда и тем самым выкупается собственный грех. И только в православии спасение осмысляется как внутреннее перерождение человека, его преображение духовное». (12)
Поэтому православная социально-политическая доктрина уводила власть и общество от союза с рынком и укрепляла их союз с Церковью. При этом она вовсе не была противником социальной многополярности мира, как это было характерно для католичества. Считалось, что добро нельзя навязать извне, к нему надо идти самостоятельно. Если какое-то государство не доросло до высоких идеалов православия, оно может жить своими принципами. (13)
Кроме того, еще в VIII в. был составлен подложный указ от имени святого императора Константина о том, что он дарует римским папам «власть и почет, равные императорским… и главенство над всеми христианскими церквами» (14). В этом же веке папы объявили о создании собственного государства – Папской области и в нарушение правил Священного Предания и постановлений Пятого Вселенского Собора о строгом разделении властей и их функций, взяли и объединили, подобно исламским халифам, всю высшую светскую и духовную власть в своем государстве. Вскоре власть римских пап стала считать себя выше власти Вселенских церковных Соборов, коллегиальному решению которых продолжала подчиняться православная Церковь и православные государства. Кроме того, престол святого Петра, стараясь увеличить число католиков, позволял себе иногда опускаться до уровня варварской морали, подстраиваясь под стереотипы и ценности язычников. (15).
Неслучайно, имея слабость к индивидуализму и материальному приобретательству, католицизм выродился в протестантизм, а он в свою очередь в атеистические доктрины социализма, коммунизма и гражданского общества вопиющие против самих основ христианской государственности.
Согласно К. Марксу, «эгоизм воплотился в принцип гражданского общества, а деньги – ревностный бог Израиля, перед лицом которого не должно быть никакого другого бога, стали всеобщей, в себе самой конституировавшейся стоимостью всех вещей». (16)
Быть гражданином западного мира стало легко, потому, что от тебя ни чего не требовалось в плане духовного роста и тем самым шло нивелирование социальных потребностей до уровня животного интереса к жизни. «Раскройте любую книгу,- пишет С. Цвейг,- из 50 000 книг, ежегодно издаваемых в Европе. О чем они? О счастье. … И если мы оглянемся вокруг, на улицах, в лавках, низких комнатах и светлых залах – чего там хотят люди? – Быть счастливыми, довольными, богатыми, могущественными. Кто из героев Достоевского стремится к этому? – Никто. Ни один» (17). Почему? Потому, что для Ф.М. Достоевского вся система государственной идеологии, воспитывающей человека, строится на основе православия, которое, в отличие от западного христианства продолжало «неприкосновенно хранить вверенный первоначальной церкви залог веры, ничего … не прибавляя и не убавляя». (18)
Правда могут спросить: а разве плохо, что Западная цивилизация тешит наши биологические слабости и дает нам в этом полную свободу? Известная сложность здесь заключается в трактовке самого понятия «свобода». Свобода, по мнению православия, бывает как для греха, так и от греха. Если свобода существует для греха, тогда она оправдает любое отклонение от предписанных верой норм социально-политического поведения и ведет нас к борьбе за лучшую жизнь. Если свобода дана от греха для спасения нашей души, тогда мы будем в первую очередь думать как быть, а не жить лучше. Неслучайно политические и правовые доктрины эпохи просвещения, коммунизма и либерализма избавили себя от этого понятия. (19) Этим фактом оправдывались любые формы политического действия способные привести к власти или удержать ее. Любовь к себе победила любовь к Богу и тем спровоцировала величайшие социально-политические кризисы и небывалый рост преступности, став неотъемлемой частью секулярного сознания светского общества и государства.
Тогда как воцерековленная, а не фарисействующая политическая власть, наоборот, главную социальную задачу старались сводить к помощи человеку в спасении его души. Ставка на «диктатуру совести» здесь была обязательной. Все ресурсы власти, работа социальных и политических институтов были подчинены только этому. Насколько хорошо они работали, это уже другой вопрос. Но поскольку с данной задачей лучше всего справлялось православие, его и выбрал князь Владимир. Постепенно новую веру поддержал народ. Это в частности хорошо заметно на внедрении понятия «христианин» (крестьянин), пришедшего вместо прежних языческих обозначений трудового населения, отнюдь не по инициативе власти.
Понимание сделанного выбора, поставившего духовные ценности выше меркантильных, связанных со страстями земного несовершенного мира, породило в общественном сознании понятие «Святой Руси». В дальнейшем это понятие будет противопоставлено идее «Великой России» как экономически, а не духовно успешной стране, сумевшей вписаться в систему ценностей земного мира, который есть «похоть плоти, похоть очей и гордость житейская».
Примечания
1. Митрохин С. Трансформация России: выбор стратегического ресурса. Доклад на юбилейном симпозиуме ИГПИ. М., 1999. С. 4-9; Гайдар Е. Т. Долгое время. Россия в мире: очерки экономической истории. М., 2005. С. 260
2. Свод древнейших письменных известий о славянах (далее СДПИ). Т.1. (V-VI вв.). Отв. ред. Гиндин Л.А., Литаврин Г.Г. М., 1994. С. 25, 32-35, 39-41
3. Полное собрание русских летописей (далее ПСРЛ). Т. 2. М.,1997. Стб. 9-10
4. См.: СДПИ. С86-87; ПСРЛ Т.2. М.,1997. Стб. 9-10
5. См.: ПСРЛ. Т.2. Стб. 10.
6. См.: Гумилёв Л.Н. Открытие Хазарии. М., 2002. С. 287-308
7. ПСРЛ. Т.1. М., 1997. Стб.86
8. Коран. Сура 2, аят 156-189; Сура 4, аят 76-78; Сура 9, аят 29
9. Шпет Г.Г. Очерк о развитии русской философии. М., 1989. С. 28
10. Гайдар Е.Т. Долгое время. Россия в мире: очерки экономической истории. М., 2005. С. 264
11. Цит. по: Платонов О.А. Терновый венец России. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христианской цивилизации. М., 1998
12. Дунаев М.М. Православие и русская литература. М., 1996. Ч. 1. С.5-6
13. Никон (Рождественский)., архиеп. Православие и грядущие судьбы России. М., 1995. С. 299
14. Лозинский С.Г. История папства. М., 1986. С. 57
15. См.: Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. М., 1987 С. 170-180
16. См.: Мысли К. Маркса и Ф. Энгельса о религии. М., 1927. С.213-216
17. Цит. по: Линьков В., Саакянц А. Лев Толстой. М., 1994. С.13
18. См.: Зеньковский В.В. Русские мыслители и Европа. М., 1997. С. 117-120
19. См.: Кирилл, митрополит. Вызовы современной цивилизации. Как отвечает на них православная Церковь? М., 2002. С.41-43
Асонов Н.В. , Московский университет МВД России, доктор политических наук