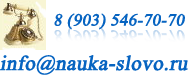Конференция «Духовное и культурное наследие Византии»
Картинки:

4.8. Конференция «Духовное и культурное наследие Византии»
Председатель: Епископ Магаданский и Синегорский Гурий.
Сопредседатели: Назаренко Александр Васильевич, д. ист.н., гл.н.с. Института всеобщей истории РАН, председатель научного совета РАН «Роль религии в истории»;
Лисовой Николай Николаевич, д.ист.н., вед.н. с. Института российской истории РАН, зам. председателя Императорского Православного Палестинского общества;
Сильвестрова Елена Витальевна, к.ист.н., PhDinlaw, редактор журнала «Московская Патриархия».
Куратор: Розина Ольга Владимировна, к.ист.н., доцент Московского государственного областного университета и Педагогической академии последипломного образования.
Время проведения: 25 января, 11.30.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Аванзал (вход со стороны набережной).
Проезд: м. «Кропоткинская».
1. Епископ Магаданский и Синегорский Гурий. Приветственное слово.
2.Лисовой Николай Николаевич, д.ист.н., вед .н.с. Института российской истории РАН, зам. председателя Императорского Православного Палестинского общества. Вступительное слово от сопредседателей конференции.
3.Цеханская Кира Владимировна, ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, д. ист. н. «Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: национальная “самобытность” или подражательная “вторичность”?»
4.Конявская Елена Леонидовна, профессор Университета Российской академии образования, главный редактор научного журнала «Древняя Русь. Вопросы медиевистики», д. филол.н. «Церковно-государственная деятельность Андрея Боголюбского: к истории иконыБоголюбской Божией Матери и Покрова».
5.Пуцко Василий Григорьевич, ведущий научный сотрудник Калужского областного художественного музея, заслуженный работник культуры РФ. «Интерьер православного храма Нового времени в Греции и России (по материалам российско-греческой экспедиции на Санторини)».
6.Квливидзе Нина Валериевна, доцент Российского государственного гуманитарного университета, доцент Московской Духовной академии и семинарии, канд.Искусствоведения. «Художественные программы середины XVI в. и взаимодействие церкви и государства при митрополите Макарии и Иване Грозном: отношение к византийскому наследию».
7.Бутова Ритта Борисовна, к.ист.н., Императорское Православное Палестинское Общество. «Византийские традиции в храмостроительном наследии архимандрита Антонина (Капустина)».
8.Белов Алексей Викторович, научный сотрудник Института истории РАН, доцент Московского государственного областного университета, к.ист.н. «Византийский стиль и русская провинция».
9.Игошев Валерий Викторович, ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследовательского института реставрации, докторискусствоведения. «История серебряной митры патриарха Константинопольского Григория V работы русского мастера конца XVIII – начала XIX в. из монастыря Св. Ильи Пророка на острове Санторини».
10.Белова Калерия Антониновна, доцент МГИМО (У) МИД РФ. «К вопросу о сохранении культурного и духовного наследия древней Каппадокии».
11.Священник Димитрий Пашков, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе, преподаватель Московской Духовной академии и Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. «Византийское светское и церковное право о проблеме гомосексуализма».
12.Городов Дмитрий Андреевич, начальник отдела менеджмента и маркетинга паломнической службы «Радонеж». «Организация религиозных путешествий и паломничества по территории духовного и культурного наследия Византии (территория Турецкой республики) (информационное сообщение)».
13.Розина Ольга Владимировна, доцент Московского государственного областного университета и Педагогической Академии последипломного образования, к.ист.н. «Византия и Русь: почитание на Русской земле святых воинов Каппадокии».
14.Кузенков Павел Владимирович, доцент, преподаватель византологии Сретенской духовной семинарии, к.ист.н. «Политическая деятельность в богословском преломлении: византийская традиция».
15.Асонов Николай Васильевич, доцент кафедры социологии и политологии МосУ МВД России, д.политических н. «К вопросу о византийском наследии».
16.Реснянский Сергей Иванович, профессор, заведующий кафедрой Российского государственного университета туризма и сервиса, д. ист. н. «Византийское наследие и его проекция в российском историческом социуме».
17.Окара Андрей Николаевич, директор Центра восточноевропейских исследований, к.ю/н. «Восточнохристианская цивилизационная матрица и ее роль в создании нового “миростроительного” проекта».
18.Петрунин Владимир Владимирович, к.филос.н., доцент Орловского государственного университета. «Византийское содружество наций и Русский мир: проблемы сотрудничества Церкви и государства».
19.Чурсанов Сергей Анатольевич, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, к.богословия, к.филос.н. «Святоотеческое учение о Пресвятой Троице как богословская основа утверждения уникальности человека в современной православной антропологии».
20.Бирюков Дмитрий Сергеевич, ученый секретарь Института истории христианской мысли при Русской христианской гуманитарной академии, к.филос.н. «Об официальных изложениях полемики вокруг исихазма ее участниками в эпоху паламитских споров».
21.Тузова Ольга Антоновна, преподаватель богословско-педагогических курсов во имя свмуч. Фаддея Тверского. «Теория и практика приложения халкидонского догмата в истории: император Юстиниан I Великий и его церковно-государственная деятельность».
22.Гладышева Стела Геннадиевна, доцент МИРЭА, к.филос.н. «Максим Грек и И.В. Киреевский о соотношении “внутренней” и “внешней” философии».
23.Меньшиков Александр Владимирович, ведущий специалист Главархива Москвы, к.ист.y,. «Падение Константинополя в 1453 г. в отражении современных и позднейших источников».
24.Бибиков Михаил Вадимович, ректор Государственного академического университета гуманитарных наук, руководитель центра истории восточно-христианской культуры Института всеобщей истории РАН, д.ист.н. «Титул Патриарха Московского в соборном постановлении об учреждении патриаршества в России».
25.Рудаков Александр Борисович, член Союза журналистов РФ. «Образ Византии в сознании современной российской интеллигенции».
26.Иванова Мария Александровна, преподаватель Московского колокольного центра, к.ист.н. «Истоки традиции звуковой регламентации повседневной жизни монастырей Афона в X–XIII вв.».
27.Зубов Дмитрий Васильевич, директор центра «История Афона», к.э.н. «Архимандрит Росикона Прокопий (Дендрин) и первое издание актов Русского Пантелеимоновского монастыря на Святом Афоне».
ТЕЗИСЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ
Асонов Николай Васильевич, доцент кафедры социологии и политологии МосУ МВД России, доктор политических наук
К вопросу о византийском наследии
«Холодная война» не закончилась с развалом СССР, а перешла в новую стадию. Она ведется против цивилизационного многообразия, сохранение которого мешает установить единое мировое правительство и либерально-демократические ценности. Особое внимание в этой связи уделено борьбе со славяно-православной цивилизацией в основе которой лежит духовно-политическое наследие Византии. Дело в том, что, по мнению некоторых американских идеологов, Россия как центр этой цивилизации все еще тесно связана с главным наследием византизма – православием. Именно оно якобы представляет сегодня «одну из величайших угроз для безопасности США».
В чем же состоит эта угроза? Она состоит в том, что православие как основа византийской государственности всегда стояло выше других религий. Данное обстоятельство стало решающей причиной, повлиявшей на принятие Русью этой религии в 988 г. Ее ключевые нормы и правила формировались и постулировались совместно духовной и светской властью. Благодаря чему православный человек стал политизированным человеком. Он не может равнодушно относиться к тому, какая форма правления установлена в государстве и куда ведет его власть.
Поэтому чтобы разрушить славяно-православную цивилизацию, впитавшую в себя традиции Византии, Запад вынужден вести борьбу с культурой Россией. С этой же целью идет навязывание либерально-демократических стандартов, которые в корне противоречат самим основам православия как духовной основы византизма.
В этих условиях с особой актуальностью встает вопрос о византизме как социально-политическом явлении, способном защитить наше право на тот путь развития, с которым связана история и культура подавляющего числа коренных народов нашей страны. Поэтому стоит прислушаться к тем, кто видит дальнейший путь развития России в объединении духовности, державности и соборности, как реальную альтернативу Западным проектам разложения России.
Белов Алексей Викторович, научный сотрудник Института истории РАН, доцент Московского государственного областного университета, кандидат исторических наук
Византийский стиль и русская провинция
Византийский (русско-византийский) стиль не получил широкого «одобрения» в традиции изучения истории русской архитектуры. Его оценивали (и не без основания) отталкиваясь от реакционного характера правления Николая I, выступавшего принципиально против периода, породившего декабристскую молодежь, мышление которой было взращено в условиях классицизма с его демократической направленностью. Сомнение в «современности» классицизма (и как стиля, и как формы мышления) породило в архитектурных, общественных и политических кругах формирование целого ряда новых форм. В частности, славянофильства. Одной из них и стал так называемый русско-византийский стиль, наиболее ярким воплотителями которого в России стали архитекторы В.П. Стасов и К.А. Тон.
Византизм русской архитектуры, связываемый с политической подоплекой, естественно должен был стать в первую очередь атрибутом столичных городов, т.к. его задачей было провозглашение новых идейных основ. Это во многим и явилось основанием для его отрицания как либеральными кругами, так и знатоками искусства. Так, человек не чуждый архитектуре и истории Л.В. Даль писал: «сходство наших церквей, построенных в византийском стиле, с настоящими византийскими храмами – более чем сомнительно».
Но так ли все однозначно? Действительно ли византизм в русской архитектуре имел исключительно насаждаемый сверху назидательно-охранительный характер и вошел искусственно в жизнь России, как византийский двуглавый орел стал частью ее государственной символики. Россия помнила свою судьбу, частью которой была тесная (часто духовная) связь с Византией, нередко воспринимаемая как преемственность. Идея это была далеко не только официальной и политической. Примером тому могут служить использование византийского облика на периферии, население которых было более близко к решению повседневных забот, нежели поддержанию имперского величия.
Использования византийского стиля известно, в частности, в городах и селах современного Подмосковья. Один из наиболее ярких примеров – возведенная в Коломне так называемая Троицкая церковь в Щурове. В том же районе в с. Грайвороны (Гравороны) располагается Казанская церковь (1854), построенная в т.н. «тоновском» стиле.В Домодедовском районе вблизи Симферопольского шоссе в с. Сокольниково была возведена огромная церковь византийского стиля с красивым декором из белого камня (1855)
Недалеко от хорошо известной усадьбы Рай-Семеновское в с. Иванова гора в 1895 г. был построен комплекс Предтеческой церкви. Хотя сам храм и не сохранился, но до наших дней дошла высокая колокольня и две часовни, выполненные византийском стиле. Список этот можно продолжить.
Интересно, что тенденция использования образа Византии в архитектуре провинциальной России не прекратилась. Ее можно объяснять по-разному, но она есть. Примером тому – элементы византийского стили в возводимом в последние годы храме города Звенигорода – одного из самых маленьких городов столичного региона.
Таким образом, проблема византийского культурного наследия имеет не узкий характер прямого заимствования, а распространяется опосредовано на многие сферы культурной деятельности (в частности, архитектурный облик ряда памятников церковного зодчество российской провинции). Данное обстоятельство может быть объяснено только с позиций комплексного анализа всей совокупности факторов «византийского наследия»
Белова Калерия Антониновна, доцент МГИМО (У) МИД РФ, кандидат исторических наук
К вопросу сохранения культурного и духовного наследия древней Каппадокии
Со времен раннего христианства сохранились в Каппадокии сотни пещерных храмов и монастырей. Именно здесь родился Георгий Победоносец, здесь жили и творили великие Отцы Церкви, здесь сложилось православное общежительное монашество. Очень многое из того, что сегодня составляет основы церковного зодчества, иконописи, фрески, сформировалось именно в Каппадокии.
Центром развития каппадокийской фрески стала «монастырская долина» Гёреме и ее окрестности, где в IX-XII веках были расписаны несколько сотен выдающихся храмов. Такие храмы, как Старая и Новая Токалы, Чавушин, Айвалы, Юсуф Коч, храмы Ихлары, Темная церковь – уникальные памятники мировой культуры, не имеющие аналогов в истории искусства.
К середине XX века в Каппадокии не осталось действующих православных храмов, большинство из них были осквернены, фрески – сильно повреждены. Во второй половине XX века наиболее ценные в художественном отношении храмы были отреставрированы (в основном, силами европейцев) и поставлены под надежную охрану. Однако и по сей день число сохраненных и отреставрированных церквей - единицы, а требующих немедленной реставрации – десятки и сотни.
Большую долю заботы над православными святынями Каппадокии взяли на себя, как это не парадоксально, светские западноевропейские организации. При этом результаты работы европейских и турецких реставраторов в церквях Каппадокии неоднозначны: по мнению специалистов отечественной школы, очень многое делается ими с грубыми нарушениями технологии реставрации древних памятников.
Сегодня Турция не препятствует, а напротив, старается привлечь высококлассных российских исследователей и реставраторов к решению проблем православного наследия Каппадокии, однако эти попытки пока не увенчались успехом. Необходимая для реализации этого начинания государственная воля России пока не проявлена. При этом ничтожной доли средств, поступающих в бюджеты двух стран от многомиллиардного российско-турецкого внешнеторгового оборота, могло бы хватить для спасения всех без исключения памятников, чьи стены помнят Василия Великого и Григория Богослова, Симеона Столпника и Равноапостольную Нину, и нашего великого соотечественника – Святого Иоанна Русского.
Стоит напомнить, что в XIX - начале XX веков, в один из сложнейших периодов в отношениях России и Турции, российские власти изыскивали возможности для спасения православных святынь на территории Турции. Специально созданный Российский Археологический Институт в Константинополе (РАИК) координировал деятельность русских реставраторов и исследователей в Мирах Ликийских, в Стамбуле, в Каппадокии.
Сейчас, когда отношения между Россией и Турцией находятся в наиболее благополучной фазе, настает время для возрождения этих начинаний. Нужны консолидированные усилия Русской Православной Церкви, Министерства культуры России, МИДа, общественных организаций России и Турции для совместной работы по спасению каппадокийских святынь.
Бибиков Михаил Вадимович, ректор Государственного академического университета гуманитарных наук, руководитель центра истории восточно-христианской культуры Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук
Титул Патриарха Московского в соборном постановлении
об учреждении патриаршества в России
В хранящейся в Государственном историческом музее греческой грамоте Акта Константинопольского собора 1593 г., утверждающего патриаршество на Руси и соответственно митрополита Иова в качестве первого патриарха, в соответствие с дипломатическим этикетом неоднократно называется как полный титул царя, так и новоутвержденный (акт 1593 г. подтверждает первоначальную грамоту того же содержания от 1590 г.) патриарший титул. В тексте 1593 г. говорится об утверждении патриархами Константинополя, Александрии (представляющего еще и мнение Антиохийского владыки) и Иерусалимского, а также перечисляемые сорока иерархами, подписавшими документ, «патриаршего престола благочестивейшего и православного города Москова», поскольку «страна эта от Бога удостоена царства – вся Росия и гиперборейские пределы» и подчиняются «патриаршему престолу Москова и всея Росии и гиперборейских пределов». Далее об этой земле говорится как об «области («парэкии») Москова и всея Росии и гиперборейских пределов» (11 - 12). И далее утверждается официальный титул «патриарх Москова и всея Росии и гиперборейских пределов» (23 – 24). А еще чуть ниже назван и «благочестивейший царь (василевс) Москова и самодержец всея Росии и гиперборейских пределов» (32 – 33). В заключение Собор высших иерархов Восточнохристианской церкви постановляет направить настоящий Акт, скрепленный подписями участников Собора, «благочестивейшему царю (василевсу) и всесвятейшему Иову, патриарху всея Росии и гиперборейских пределов» (39 – 41).
Итак, официальный документ высшей церковной власти православной церкви именует царя, а вслед за ним и новопоставленного патриарха правителями (светским и духовным) Московскими, всея Руси и северных (дословно «Гиперборейских») пределов. Что скрывает в себе последнее определение?
В византийской традиции, наряду с сохранением античных представлений о гипербореях как о полумифическом народе Крайнего Севера, находятся отождествления с современными средневековым грекам пределами от Галицкой Руси до Белого моря, считавшегося «заливом» Северного Ледовитого океана. В Акте Константинопольского собора 1593 г. юрисдикция царя и патриарха Московского и всея Руси распространяется, по представлениям высших иерархов православного Востока, далеко до Крайнего Севера, что и отражено в официальной титулатуре.
Бирюков Дмитрий Сергеевич, ученый секретарь Института истории христианской мысли при Русской христианской гуманитарной академии,
кандидат философский наук
Об официальных изложениях полемики вокруг исихазма ее участниками
в эпоху паламитских споров
В ходе бурной истории полемики вокруг исихазма каждая сторона по просьбе представителей императорской власти или священноначалия была вынуждена представить свое официальное изложение начала, а также хода споров. В этих изложениях можно заметить любопытные детали, которые могут пролить свет на важные подробности хода споров. Можно отметить небольшое несоответствие между описанием начала паламитских споров, с одной стороны, в изложении хода споров в «Речи к Иоанну Калеке», написанной Григорием Акиндином по просьбе Калеки (тоже понимание событий приводится в изложении ряда паламитских авторов), и с другой стороны, в изложении хода споров в «Истории вкратце…» Давида Дисипата (одного из образованнейших представителей паламитской партии), написанной по просьбе императрицы Анны Савойской, вероятно, для определенного противовеса версии хода споров Григория Акиндина, когда Анна Савойская после убийства регента Иоанна Апокавка и победы Иоанна Кантакузина перестала симпатизировать Акиндину. А именно, в первом случае используется распространенное в то время представление, согласно которому первыми собеседниками Варлаама на тему исихазма были простые и необразованные монахи, учением которых (по причине их "темноты") и возмутился Варлаам; в то же время, Давид Дисипат в своем изложении начала споров вокруг исихазма не использует этот популярный топос. В докладе этот, казалось бы, незначительный факт будет связан с другими подробностями хода споров и с концепцией А. Риго, согласно которой выступление Варлаама против исихастких практик связано с его общением не с неизвестными необразованными монахами, но с кружком св. Игнатия Исихаста, в который входил и Давид Дисипат.
Гладышева Стела Геннадиевна, доцент МИРЭА, кандидат философских наук
Максим Грек и И.В.Киреевский о соотношении «внутренней» и «внешней» философии
Проблема отношения христиан к «внешней» философии, и шире, к «внешней» образованности, интеллектуальной культуре, определялась как существенная со времен ранней патристики. Отцы Церкви, будучи сами классически образованными людьми, полагали овладение богатством языческого наследия великим искушением для христианина, и, в то же время, необходимостью для него. Споры о месте и роли античной философии в христианском Богопознании не утихали до самой гибели Византии. Им вторила и с ними пересекалась дискуссия об отношении к западному христианству.
В Московской Руси была воспринята позиция исихастов, наследников святоотеческой богословской традиции, одержавших убедительную победу над оппонентами в «последние времена» Византии. Видную роль в самой постановке проблемы «внутренней» и «внешней» философии на Руси сыграл Максим Грек. Он также указал возможный путь ее решения. В XIX в. к тому же вопросу обратился И.В. Киреевский, открывший для европейски образованных современников наследие Отцов Церкви.
Городов Дмитрий Андреевич, начальник отдела менеджмента и маркетинга паломнической службы «Радонеж» (Москва)
Организация религиозных путешествий и паломничества по территории духовного и культурного наследия Византии (территория Турецкой республики) (информационное сообщение)
Краткий обзор опыта организации религиозных путешествии и паломничества по территории духовного и культурного наследия Византии (территория Турецкой республики) на примере работы паломнической службы «Радонеж».
Участие в организации путешествий и паломничества официальных государственных структур, туристических организации, церковных институтов (патриархии, духовные миссии и паломнические центры и другое).
Особенности организации богослужений на территории Турецкой республики.
Проблемы и вопросы в организации путешествий и паломничества. Способы и пути решения.
Зубов Дмитрий Васильевич, директор центра «История Афона», кандидат эконом. наук
Архимандрит Росикона Прокопий (Дендрин) и первое издание актов Русского Пантелеимоновского монастыря на Святом Афоне
Тщательное исследование обретенной в Росиконе (Священный Русский монастырь) греческой рукописи перечня актов, изданных в 1873 г. в Киеве (86 актов - из них 50 актов до 1723 г), анализ небогатой информации о жизни старца Прокопия, исследование его трудов в Геннадиевской библиотеке (Афины) показало, что кроме известных персон, принимавших активное участие в подготовке публикации сборника актов 1873 г. (о. Азария (Попцов), проф. Терновский, архимандрит Антонин (Капустин), акад. А.Н. Муравьев и др.), принимал участие и грек архимандрит Прокопий Дендрин – совершенно неизвестный современным исследователям. Прокопий вместе с игуменом Саввой принимал активное участие в переговорах и со Вселенским Патриархом Каллиником V в 1803 г. и с Великим Драгоманом Скарлатом Каллимахом в период возрождения монастыря. В число ближайшего окружения игумена Саввы входил и его преемник о.Герасим и о. Венедикт († 1839).
После греческого восстания в 1820-21 гг., когда Афон занял курдский вооруженный отряд, шесть оставшихся Росиконовских монахов, взяв с собой все святыни, ушли в Морею. В начале 30-х гг. по возвращении в родной монастырь, интеллектуал Прокопий по благословению о. Герасима приступил к реконструкции и упорядочению актового собрания монастыря.
У о. Прокопия уже был опыт преподавательской и научной работы. В 1830 г. он преподавал в Церковной школе, основанной в 1828 г. при детском приюте, в монастыре Животворящий источник (основанном в 1720 г.) на о.Порос. В 1831 г. он издал на Эгине в национальной типографии книгу «Введение в Святое Писание», собранное из сочинений Оригена и Феодорита Епископа Кипра. В 1832 г. в книге, изданной в Навплионе, автор подписывается «Преподобнейший Архимандрит Господин Прокопий Дендрин из Русского киновия».
Полный перечень выявленных изданных и не изданных произведений о.Прокопия имеется. В ЧОИДР при МУ № 4, отд. 4, 1846, с. 11-14 Д.Ч.В. Ундольский помещает Краткую историческую записку о. Сергия Святогорца о монастыре русском св. Великомученика Пантелеимона, находящемся на св. Афонской Горе.
Но самое интересное обстоятельство содержится в примечании автора о монастырском собрании хрисовулов: «Слишком сорок хрисовулов уцелело еще в монастыре от постоянных бедствий, которые испытывала Св. Гора в продолжении многих веков. Мы позволим себе упомянуть при этом, что находящийся в нашем монастыре Архимандрит Прокопий принял на себя труд исследовать подробно историю монастыря по отношению к другим монастырям и о значении его в мире Православном. Труды Отца Прокопия в области богословия, заслужившие уже всеобщую известность, заставляют надеяться, что это исследование будет не малым дополнением к истории Церковной».
Предварительный палеографический анализ почерка автора рукописи дает основание сделать некоторые выводы:
1. Почерк принадлежит греческому интеллектуалу.
2. Текст грамотный.
3. Почерк разработанный, т.е. рука многопишущая.
4. Бумага и почерк говорят о возможности отнесения документа к середине XIX в.
5. Единственный монах, который мог быть автором этого документа – это архимандрит Прокопий Дендрин (с большой степенью вероятности).
6. Греческая пагинация разделов актового собрания (изд. 1873 г.) и рукописи также говорит в пользу греческого авторства.
Иванова Мария Александровна, преподаватель Московского колокольного центра,
кандидат исторических наук
Истоки традиции звуковой регламентации
повседневной жизни монастырей Афона в X–XIII вв.
Истоки церковного призыва на Афоне берут свое начало со времени основания Афанасием Великим первого общежительного монастыря. Данные предположения основаны на уникальных сведениях, найденных в уставе-Завещании преп. Афанасия X в.
В дальнейшем первоначальные обычаи были заимствованы крупнейшими афонскими монастырями, что способствовало формированию местных локальных традиций призыва.
Способы и порядок звуковой регламентации трех крупнейших обителей Афона были реконструированы на базе корпуса Святогорских уставов XIII–XIX вв., опубликованных выдающимся литургистом А.А. Дмитриевским.
Игошев Валерий Викторович, ведущий научный сотрудник Государственного
научно-исследовательского института реставрации, доктор искусствоведения
История серебряной митры патриарха Константинопольского Григория V работы русского мастера конца XVIII-начала XIX веков из монастыря Св. Ильи Пророка острова Санторини
В 2010 г/ в православных храмах греческого острова Санторини были изучены предметы церковного искусства с целью выявления среди них русских произведений. В результате были обнаружены 109 ранее неизвестных памятников русского церковного искусства конца XVIII-XIX вв. Часть русских предметов церковного искусства была куплена на пожертвования прихожан, как греков, так и русских, а часть – является государственными вкладами. В это время Россия оказывала большую помощь и покровительство балканским народам, угнетаемым Османской империей. Из России в греческие храмы на кораблях доставлялись многочисленные изделия церковной утвари и облачения, а также - денежные вклады, как от частных лиц, так и из государственной казны. Денежные средства направлялась и от сборщиков милостыни, причем власти Российской империи строго следили, чтобы такие сборы подаяний происходили только с разрешения Синода. Особенно много русских предметов церковной утвари сохранилось в монастыре Св. Ильи Пророка, расположенного на самой высокой вершине горы острова Санторини. Одним из ценнейших памятников русского искусства является серебряная митра из древлехранилища монастыря, по преданию принадлежащая патриарху Константинопольскому Григорию V. Проведенное нами исследование позволило узнать историю этой митры, датировать ее концом XVIII-началом XIX вв. и отнести к работе русского мастера.
Патриарх Константинопольский Григорий V во время восстания за независимость Греции был повешен турками на воротах патриархии в Константинополе в день Пасхи 10 мая 1821 г., затем его тело было брошено в море. Тело патриарха было найдено греческими моряками и тайно доставлено на судне «Св. Николай» под русским флагом в Одессу. По приказу императора Александра I из Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга траурная митра с полным облачением была доставлена в Одессу ко дню торжественной траурной церемонии похорон патриарха. Спустя 50 лет в 1871 г. мощи патриарха Григория V были перевезены в Грецию и перезахоронены в кафедральном соборе в Афинах. Григорий V патриарх Константинопольский был канонизирован как священномученик и «мученик за народ» (память 10 апреля).
Серебряная митра также как и другие произведения, изготовленные в России и находящиеся в храмах на греческих островах, является свидетельством той политической, экономической и духовной поддержки, которая Россия оказывала Греческой Церкви и Греческому государству на протяжении длительной борьбы за независимость от Османской империи и, особенно, в сложной политической ситуации в период национально-освободительного восстания 1821-1829 гг.
Квливидзе Нина Валериевна, доцент кафедры всеобщей истории искусств Российского государственного гуманитарного университета, доцент Московской Духовной академии и семинарии, кандидат искусствоведения
Художественные программы середины XVI в. и взаимодействие церкви и государства при митрополите Макарии и Иване Грозном: отношение к византийскому наследию
Художественным работам в Московском Кремле, осуществленным после Большого московского пожара 1547 г., уделено большое внимание в науке. Обсуждение вопросов церковного искусства на соборах 1551 и 1553-1554 гг. и полемика дьяка Ивана Висковатого с митрополитом Макарием об иконографическом содержании вновь написанных икон вызывает неослабевающий интерес исследователей.
Между тем проблема взаимодействия церкви и государства, отразившаяся в масштабных живописных и архитектурных программах царских заказов, внимания ученых не привлекает. По существу, вопрос так не формулировался и такая проблема до сих пор вообще не рассматривалась.
Идеологическая направленность ансамблей, созданных в этот период, кажется самоочевидной. Их задача служить прославлению первого русского царя, обоснованию легитимности его сана, а также назиданию в благочестии не вызывает сомнений. Однако содержание грандиозных живописных и архитектурных комплексов этим не исчерпывается. Круг задач, стоявших перед царем и духовенством, имевшим отношение к разработке широкомасштабной культурной программы, был много шире и не ограничивался нуждами момента.
1) Круг памятников: созданных: восстановительные работы в Кремле после пожара 1547, иконы и росписи Благовещенского собора; 1551 г., работы в Успенском соборе – рельефы царского места с иллюстрациями «Сказания о князьях владимирских», икона «Благословенно воинство небесного царя»; до 1553 г. - Золотая палата; 1555-1561 гг. - строительство церкви Покрова на рву с приделами в честь праздников, ознаменовавших победы казанской войны; 1560-е – росписи Архангельского собора, 1560-1570- Лицевой летописный свод; 1560-е – росписи Успенского собора Свияжска.
2) В середине XVI в. в русском искусстве впервые создаются произведения, в которых охват сюжетов Священного Писания простирается от Сотворения мира до Второго пришествия. Таковы ветхозаветные циклы в Свияжске, в иллюстрациях Лицевого свода, на 4-хчастной иконе Благовещенского собора.
3) Также впервые параллельно священной истории выделяется тема истории политической, в которой настойчиво выстраивается перспектива, связывающая великих царей древности с предками русского царя и его современниками. Особое внимание уделяется священному образу царя. Изображения ветхозаветных царей встречаются как непременный мотив и в храмовых росписях и в дворцовых палатах, и на иконах, и в миниатюрах рукописей.
4) Одновременно получает распространение посмертный исторический портрет русского государя в образе схимника, принявшего монашеский постриг в конце жизненного пути. Таковы образы Ивана Калиты, Дмитрия Донского, отца Ивана Грозного Василия III . Важно, что этот набор тем присутствует почти во всех произведениях: в росписях Архангельского и Благовещенского соборов, Золотой палаты, в рельефах царского места.
5) Принято считать, что многочисленные изображения благочестивых царей являются назидательным примером для молодого Ивана Грозного, так как они наглядно демонстрируют, что Бог сохраняет благочестивого царя и его царство. Наряду с возможностью такого истолкования следует обратить внимание на более важный аспект. Образы святых царей свидетельствуют не столько о личном благочестии, сколько об особом характере их земного служения. Святые цари и не святые «сродники» московского государя выстраиваются в определенный чин или ряд, подобный воинам, монахам, девам и т.п. Задача искусства – показать, в чем состоит смысл и цель царского служения.
6) Одной из главных сторон деятельности царей выступает борьба с врагами Бога, о чем прямо говорит митрополит Макарий в своем послании Ивану Грозному во время Казанского похода, причем глава Русской церкви и герой казанского похода русский царь выступают как две согласно действующие силы. Этой теме соответствуют росписи Золотой палаты, Архангельского собора и икона «Церковь воинствующая». Сочетание церковной и царской власти является идеалом христианского царства. Идеальным воплощением такого понимания царского служения является образ царя, вооруженного крестом, ведущего свое войско к Небесному Иерусалиму на иконе «Благословенно воинство небесного царя».
7) Важнейшей характеристикой христианского царя, целью и условием его правления является верность православию. Эта тема многообразно отражена в художественных программах: наряду с традиционными для византийских и древнерусских росписей образами равноапостольных Константина и Елены, с которыми в Благовещенском соборе соотнесены равноапостольные русские князья Владимир и Ольга, появляются изображения праведных византийских царей Михаила и Феодоры – защитников иконопочитания. В росписи сеней Золотой палаты тема царского благочестия представлена соотнесением образов покаявшегося ветхозаветного царя Езекии и оставшегося приверженным монофизитской ереси византийского императора Анастасия, по преданию погибшего от удара молнии.
8) Кульминацией темы «христианский царь и благочестие» является участие царя в церковном соборе 1551 г.
9) Замысел художественных произведений, в которых многообразно варьируется тема исторической роли христианского властителя, конечная цель которой находится в эсхатологической перспективе, отражает, как нам представляется, задачу выстраивания идеологии отношений церковной и государственной власти в Московском царстве. В сфере художественных символов эта задача была решена с широтой и мощью, столь характерной для всех культурных предприятий митрополита Макария.
10) Иконографическим и программным источником ряда тем – священный образ царя, помощь архангела Михаила в битвах, изображение предков в молении, Древо Иессеево, изображения Вселенских соборов, являются балканские росписи. Влияние балканской традиции несомненно и в изображении Софии Премудрости, окруженной семью символами добродетелей в Золотой палате, подобно образу Софии в Хрелевой башне и последующей поствизантийской традиции. Однако эти источники подвергаются заметной переработке. Образы «в живе сущего» русского царя не имеют нимбов, из Древа Иессеева не формируется композиции русского родословия подобного древу Неманичей, участие русского царя в церковном соборе не приобретает иконографического воплощения подобного композициям сербских соборов в Драгутиновой капелле. В той осторожности, с которой русская иконография подходит к решению вопроса о царском образе отчетливо просматривается направляющая воля, очевидно согласное решение и царя и митрополита в отношении к византийскому наследию.
Конявская Елена Леонидовна, профессор кафедры истории мировой литературы Университета Российской академии образования, главный редактор научного журнала «Древняя Русь. Вопросы медиевистики, доктор филологических наук
Церковно-государственная деятельность Андрея Боголюбского: к истории иконы Боголюбской Божией Матери и Покрова
В сборнике из собрания Иосифо-Волоколамского монастыря начала XVI в. обнаружен текст молитвы, как утверждает сам книжник, списанный со свитка с иконы Божией Матери Боголюбской. После молитвы следует изложение истории образа. При этом история излагается не так, как мы привыкли ее представлять, здесь говорится о греческом происхождении иконы. Интересно и то, что в молитве упомянут Андрей Боголюбский – подобных упоминаний нет ни в одном из вариантов текста на свитках. Памятник, как доказывается, относится к домонгольскому времени.
Обнаруженная в Греции икона Боголюбской Божией Матери 1835 г. с заказной надписью, где заказчик просит изографа написать «Богородицу Покровьтельную», подтверждает устойчивую связь образов Боголюбской Божией Матери и Покрова. Почитание иконы Богоматери Владимирской, Боголюбской иконы, установление праздника Покрова и Всемилостивого Спаса и Богоматери – все это звенья церковно-государственной программы, осуществляемой Андреем Боголюбским. В Слове на Покров, Службе Покрову, Проложной статье на 1 августа (Празднование Всемилостивому Спасу и Богоматери), Молитве, приписываемой Андрею Боголюбскому, молитвах перед иконой Боголюбской Божией Матери лексические и смысловые сходства и совпадения говорят об их тесной взаимосвязи. Связь же Покрова и Боголюбской Божией Матери оказалась столь устойчивой, что сохранялась в сознании русских людей и в XIX в.
И Покров, и празднование Боголюбской Божией Матери – русские праздники, но их генезис ведет к Византии: Покров – по происхождению сюжета, Боголюбская – по иконографии. В этом смысле символично, что в греческий монастырь икона попадает от русских людей – наследников византийской церковной и культурной традиции.
Меньшиков Александр Владимирович, ведущий специалист Главархива Москвы,
кандидат исторических наук
Падение Константинополя в 1453 году в отражении современнных и позднейших источников
Доклад посвящен проблеме освещения в источниках одного из важнейших событий не только для Византии, но и для Европы и Московского царства. Проводится сравнительный анализ наиболее значительного русского источника («Повесть Нестора-Искандера о взятии Царьграда турками») с иными произведениями русского, греческого, армянского и западноевропейского происхождения. Представлены различия и особенности в интерпретации фактов, оценках действующих лиц, обосновании причин события в письменных свидетельствах участников и исторических и публицистических сочинениях позднейшего времени.
Окара Андрей Николаевич, директор Центра восточноевропейских исследований, кандидат юридических наук
Восточнохристианская цивилизационная матрица и ее роль в создании нового «миростоительного» проекта
Значительная часть современного российского общественно-политического дискурса, выстроенного на темах консервативной идеологии, русского (великорусского) этнического либо «православного» национализма, возрождения «исторической России» (в советских границах), построения «Русского Мира» (в странах СНГ), формирования в России «атомного Православия» и «православной опричнины», создания идеократии византийского типа и т.п., при всей своей внешней обращенности к основам отечественной духовной культуры, очень часто является инвариантом контрмодернизационной идеологии и проявлением архаического начала. При этом российская светская и церковная власти пытаются поставить этот дискурс себе на службу - для усиления своей общественной легитимности и укрепления собственных позиций - как внутри России, так и в православных странах СНГ.
В итоге в идеологическом пространстве выстраивается жесткая концептуальная оппозиция: неправославная (антиправославная) идеология // православная идеология, которая жестко соотносится с оппозицией: Модерн и Сверхмодерн // Антимодерн. Иначе говоря, Православие и византизм становятся символами консерватизма и национальной «незыблемости», тогда как «осовременивание» понимается как нечто концептуально чуждое Православию.
Разумеется, подобное мнение, воспроизводящее одну из «философских болей» русской интеллектуальной культуры XIX века, не является определяющим для кругов современных высоких интеллектуалов, однако в более широких и менее элитарных кругах доминирует именно подобное расхожее представление: Православие - это враг социального развития и символ консерватизма. И это хорошо (в ином варианте - плохо).
Результатом такой интеллектуальной инверсии становится ситуация, при которой Православие и духовно-культурное наследие Византии, как и в XIX–XX веках, рассматривается в качестве препятствия на пути Прогресса и Современности, как серьезный недостаток, мешающий России стать «нормальной страной» (в последнее время подобную позицию не раз провозглашал тележурналист Владимир Познер). Финансовый кризис в Греции стал еще одним ударом по восточнохристианской социальной этике: Православие снова рассматривается как фактор, препятствующий Прогрессу и Развитию - по контрасту с протестантской социальной этикой.
Тем не менее, как представляется, в недрах восточнохристианской цивилизации присутствует значительное количество системных факторов, представляющих интерес с точки зрения формирования нового «миростроительного» проекта, преодолевающего односторонность и эгоцентризм нынешнего модернистского проекта, который возник и угасает (постмодерн) в рамках западнохристианской протестантско-католической цивилизации. К факторам, способным обеспечить конкурентоспособность новому проекту развития, относятся: апофатический тип богословствования, «антропологический максимализм», постнекласическая научная рациональность, отсутствие жесткого антагонизма веры и разума, развитое представление о Преображении, а также учение об апокатастасисе.
Отождествление Православия и византизма с контрмодернизационным и консервативно-охранительным дискурсами, которое на сегодняшний день возобладало в части российского общества, ведет к маргинализации и профанизации Православия, к превращению его в локальный этнокультурный феномен России и некоторых других стран, лежащий в стороне от мейнстрима мирового социального и интеллектуального развития.
В иной модальности именно православная духовная культура, православный философский дискурс, в небольшой степени - социальная этика могут быть рассматриваемы как один из генераторов создания Будущего, как участник в создании нового «миростроительного» проекта, как энергия для прокладывания новой траектории движения человечества.
Петрунин Владимир Владимирович, доцент кафедры религиоведения и теологии Орловского государственного университета, кандидат философских наук
Византийское содружество наций и Русский мир: проблемы сотрудничества Церкви и государства
В 1971 году вышла книга британского византиноведа Д.Д. Оболенского «Византийское содружество наций». В ней автор указал на существование в поздневизантийский период содружества православных народов, скрепленного осознанием своего духовного единства. Главную роль в образовании Византийского содружества сыграла Церковь, преображенная Исихастским Возрождением. Именно православие стало тем объединяющим началом, которое потом позволило говорить о ByzanceapresByzance.
Ситуация после распада СССР в какой-то мере напоминает период упадка Византии. Разница лишь в том, что Византийское содружество наций объединяла, прежде всего, общая религиозная традиция, в то время как современный Русский мир, скорее культурное сообщество.
Однако данный факт не умаляет той роли, которую может сыграть Русская Православная Церковь в сохранении Русского мира. На наш взгляд, Русский мир представляет собой многоуровневое объединение, ядро которого составляет современная Россия.
Сотрудничество Церкви и государства должно заключаться в укреплении православной основы Русского мира. Если это ядро будет разрушено, то исчезнет и весь Русский мир. Основой для такого сотрудничества может выступать социальная доктрина Русской Православной Церкви.
Пуцко Василий Григорьевич, заслуженный работник культур РФ, ведущий научный сотрудник Калужского областного художественного музея
Интерьер православного храма Нового времени в Греции и России (по материалам российско-греческой экспедиции на Санторини)
Внутреннее церковное убранство всецело обязано византийским традициям, богослужебному укладу и его видоизменениям, а также национальным и локальным особенностям, проследить появление которых не всегда возможно, по причине их «бытового» характера. Письменные источники обычно фиксируют уже существующие формы, не отмечая их новизну: ее присутствие обычно устанавливают исследователи, опираясь на реалии и связанные с ними обычаи. Речь идет не только о самом устройстве, но и о сопутствующих ему предметах церковного обихода.
Традиционное деление храма на алтарную часть, наос и нартекс (притвор) сохраняется и в новое время. Но если в Греции жертвенник обычно занимает отдельную северную часть алтарного пространства, а в южной находится параклис (придел), в пространстве диаконника (с пристенным престолом и нишей-жертвенником), то в русской практике большей частью жертвенник представляет стол в северо-восточной части алтаря, в придел (когда-то мыслившийся как отдельный храм внутри диаконника со своим иконостасом за главным) с отдельно стоящим престолом (буквально – боковой алтарь). В отличие от греческого храма в русском более обширные солея и амвон, епископская кафедра остается за престолом. Небольшие по размерам греческие и русские храмы похожи.
Византийскому темплону, его происхождению и развитию посвящены специальные исследования. Его превращение в собственно иконостас происходит за счет увеличения количества украшавших икон, образующих тематические циклы. В отличие от греческих трехъярусных иконостасов, в декоре которых значительное место отведено резьбе, в русских преобладает многоярусная композиция либо (с XVIII в.) архитектурная конструкция с ордерной системой, которой подчинен состав икон. Различны по характеру и иконографической схеме царские врата, а также иконы относимые к типу поклонных, осветительные приборы. Эти наблюдения сделаны в июле 2010 г. при ознакомлении с храмами на острове Санторини, где обнаружено немало предметов русской церковной утвари.
Живая церковная традиция, уходящая корнями в Византию, наиболее заметная в богослужении, сказывается и в оформлении интерьера, имеющем немало своих ярких черт, выявление и изучение которых должно быть продолжено.
Реснянский Сергей Иванович, профессор, заведующий кафедрой Российского государственного университета туризма и сервиса, доктор исторических наук
Византийское наследие и его проекция в российском историческом социуме
Исторический образ Византии издавна составлял один из базовых архетипов генезиса общественного сознания в России. И это не случайно – идея византийского преемства составила дискурсивную основу становления российской цивилизации. Устрани эти родовые корни и русское цивилизационное древо иссохнет (уже иссыхает). Ключевой российский вопрос – это вопрос о государственности. Еще со времен Н.М. Карамзина установилось понимание, что история России, прежде всего, есть «история государства Российского». А Н.В. Гоголь, в свою очередь, добавил в этой связи, что историю российского государства нельзя понять без изучения истории Русской Православной Церкви. А государственность и церковь России имеют, по признанию многих историков и философов, византийскую по своим истокам природу. За превратившейся в бренд полемикой славянофилов и западников оказался нивелирован другой, возможно, более принципиальный спор «византинистов и антивизантинистов». Победили в итоге противники византийского государственного наследия. Византия приобрела в историографическом дискурсе исключительно отрицательную маркировку. Между тем главный нерв многолетней полемики между сторонниками и противниками византийского наследия и проекции его в ткань российской государственности был неизменно архетипически однороден: была ли симфония церковно-государственных отношений в практике византийской жизни или нет? И второе - если такая симфония была, то как эта византийская модель власти реализовывалась в историческом российском пространстве? В своих многочисленных публикациях историки, философы, юристы ХIХ-нач. ХХ вв.: Е. Барсов, В.М. Терновский, В.М. Грибовский, Н.С. Суворов, Н. Скабаланович, Ф.Курганов, И.Соколов, Ф. Успенский, К. Леонтье., Вл. Соловьёв и многие другие напрямую касались данной проблематики в самых различных положительных или отрицательных интерпретациях. Эти вопросы встали во весь рост ещё в Послании старца Филофея Великому князю ВасилиюIII, в котором нашли отражение две важнейшие доминанты отечественной истории России ХV-ХVI вв.: становление церковной автокефалии и тип отношений между « священством» и « царством». Особенно остро проблема церковно-государственных отношений явила себя во второй половине XVII в., когда единственной преградой для западной идеологической интервенции при патриархе Никоне было византийское наследие - византизм русского православия. Для патриарха Никона, который глубоко понимал основы государственного бытия, «благосостояние Церкви есть крепость царства». Однако византинизм был отброшен. Православие препарировано и интегрировано в ткань управления. Это сделал Пётр I. Осуществилось ли Петром I эффективное конвертирование западных ценностей в сферу духовного пространства России? Вот в чём вопрос. И до сих пор дискуссия между византинистами и антивизантинистами далеко не закончена. Современный философ А.С. Панарин призвал заново пересмотреть всю историю Византии с учётом XXI столетия и прежде всего византийскую модель церковно-государственных отношений, ибо и сегодня у барьера: западный «Большой гамбургер» с одной стороны и духовные ценности великой византийно - русской православной традиции, с другой.
Розина Ольга Владимировна, доцент Московского государственного областного университета (МГОУ) и Педагогической Академии последипломного образования (ПАПО), кандидат исторических наук
Византия и Русь: почитание на Русской земле святых воинов Каппадокии
Традиции преемственности византийского наследия на Русской земле не исчерпываются ее влиянием на характер государственной власти, архитектуру и художественное творчество, но имеют более глубинный, духовный смысл. Со всей очевидностью единство вселенского православия было явлено в почитании и прославлении Русской Православной Церковью святых и мучеников ранней византийской Церкви. Но как и в государственно-культурном заимствовании византийское преемство не было простым копированием, так и в почитании византийских святых проявились черты их российского облика. При этом неизменными оставались добродетели веры, надежды, любви, веры и верности – те высокие нравственные качества, которые составляю фундамент святости, и которые ныне могут в полной мере быть использованы в духовно-нравственном воспитании детей и юношества. Молитвенная память ныне живущих христиан о византийских святых – лучшее свидетельство не только преемственности духовных традиций Византии и Руси, но и истинности, вечности и единства вселенской Церкви.
В докладе рассматривается духовный облик святых воинов Каппадокии – Георгия Победоносца, сотников Лонгина, Акакия, Гордия, мучеников Севастийских, великомученика военачальника Меркурия Кесарийского, мученика Иерона, святого праведного Евдокима Каппадокианина-воеводы, Иоанна Русского, а также их почитание и прославление в Русской Церкви.
Рудаков Александр Борисович, член Союза журналистов РФ
Образ Византии в сознании современной российской интеллигенции
1. Образ Византии в сознании современной российской интеллигенции. Оценка Византии в либеральных и неославянофильских кругах. Восприятие Византии в контексте знакомства с русской философией ХIХ-ХХ вв. (Данилевский, Леонтьев, Соловьев, Лосев).
2. «Образованщина» и образ Византии. Культурно-исторические стереотипы восприятия Византии в массовом сознании. Византия как «цивилизационный тупик» (Тойнби). Трансляция католических («цезаропапизм») и светских западноевропейских («деспотия») стереотипов Византии.
3. Образ Византии в сознании церковной интеллигенции. Искусственная оппозиция «русского» и «византийского». Эссе С.С. Аверинцева «Византия и Русь: два типа духовности». Концепция «Третьего Рима» и восприятие византийской истории.
4. Восприятие Византии в сознании консервативной церковной общественности. Византия как консервативный проект. Византия как «удерживающий». Византия как хранительница догматической ортодоксии. Византия и концепция «симфонии властей»
5. Новые возможности прочтения византийского опыта. Византия как творческая лаборатория христианской мысли. Византия и прогресс. Византия как цивилизация-лидер.
Тузова Ольга Антоновна, религиовед, преподаватель богословско-педагогических курсов во имя свмуч. Фаддея Тверского (Синодальный Отдел РОиК)
Теория и практика приложения халкидонского догмата в истории:
император Юстиниан I Великий и его церковно-государственная деятельность
Анализ византийской модели взаимодействия Церкви и государства продолжает вызывать оживленный интерес не только у церковных историков, но является востребованным в условиях современных политических и общественных реалий. При отсутствии какой либо четко выраженной и оформленной государственной российской идеологии актуальность наследия одной из величайших мировых империй в истории не вызывает сомнения.
Одной из главных причин возникновения «политического Православия» в жизни Византии была сложная и порой драматическая борьба за церковное и гражданское единство огромного государства, когда гарантом общественного благополучия является православный государь, который по выражению святого Константина Великого именует себя «епископом внешних дел Церкви».
Эпоха святого императора Юстиниана (527-565) была временем напряженных догматических споров, в которых участвовали все слои населения. Вовлеченность самого императора в религиозные вопросы неизбежно привела к тому, что он, будучи достаточно серьезным богословом и обладая всей полнотой власти, стремился активно влиять на церковную жизнь.
В постхалкидонскую эпоху Юстиниан с особой силой ощутил свою ответственность за церковно–государственные дела, и теоретически обосновал участие императора в церковной жизни в знаменитой теории симфонии, которая излагается в предисловии к «6-й новелле» (целому своду канонического права). Юстиниан при этом пользуется понятиями Божественного и человеческого и говорит о их нераздельном единстве, что свидетельствует об экклезиологическом приложении халкидонского ороса в конкретной исторической ситуации. Можно сказать, что догмат Церкви истолковывается у него в рамках халкидонской христологии.
Политику императора Юстиниана можно рассматривать с разных оценочных позиций (в том числе и через призму негативных явлений, которые также имели место), но сегодня очень важен его опыт воцерковления государственной жизни в Византийской империи. Этот опыт не имеет срока давности и не зависит от изменения социально-политических условий и институтов власти. Поэтому рекомендации, предложенные Юстинианом I Великим в области церковно – государственных отношений, не теряют своего значения для современности и могут быть применены в любых условиях исторического бытия Церкви.
Цеханская Кира Владимировна, ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, доктор исторических наук
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: национальная «самобытность» или подражательная «вторичность»?
В наши дни русская история, а вместе с ней и традиционные архетипы самосознания этноса подвергаются попыткам критического анализа, и, в некоторых случаях – настоящей «научной» атаке. Причем, главный прицел критики направлен на «развенчание» самобытных основ Российской цивилизации. Представляется, что наиболее непримиримые научные дискуссии сегодня вызывает проблема происхождения и смыслового содержания русской государственности и культуры. В этом конфликте идей с большим напряжением сталкиваются две основные противоборствующие концепции – «заимствованности», «вторичности» русской цивилизации и концепция ее национально-религиозной самобытности.
Наиболее программно эти идеи выражены в трудах ученных, занимающихся проблемой исторического генезиса древнерусской культуры, а также в трудах некоторых византологов. Симптоматично, что полемика о смысловых духовных кодах русской истории неизменно сопровождается дискуссиями о наличии и соотношении таких категорий русской культуры, как вселенская и национальная, сакральная и профанная, мифологическая и религиозная.
В.Г. Брюсова отмечала, что уже более столетия западная наука изображает русскую культуру как варварскую, подражательную. К сожалению, сегодня самым пристрастным критикам русской истории выступают не западные, а свои, отечественные ученые. Показательным примером служат вновь, как и сто лет назад, открывшаяся дискуссия о происхождении и значении для русских праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Данная дискуссия идет в контексте противоборства все тех же двух концепций русской истории.
В докладе представлен анализ праздника Покрова и с позиций его национально-самобытного содержания, и с точки зрения ортодоксально-канонического понимания смысла христианских чудес.
Чурсанов Сергей Анатольевич, доцент кафедры систематического богословия и патрологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета,
кандидат богословия, кандидат философских наук
Святоотеческое учение о Пресвятой Троице как богословская основа утверждения уникальности человека в современной православной антропологии
Размышляя о духовном наследии Византии невозможно не выделить святоотеческое богословие IV в., ставшего по выражению одного из самых известных православных патрологов XX столетия — архимандрита Киприана (Керна) «золотым веком святоотеческой письменности». Именно в IV в. святые отцы сосредоточили усилия на раскрытии учения о Пресвятой Троице, определившего весь строй христианского мировоззрения и христианской культуры.
Борьба с арианством, развернувшаяся в IV в., выдвинула на первый план задачу безоговорочного утверждения полноты онтологического статуса как Отца, так и Сына и Святого Духа. С одной стороны, эта задача решалась святыми отцами через исповедание единства Божественной природы, в полной мере принадлежащей Каждому из Божественных Лиц. С другой стороны, решение этой задачи требовало признания абсолютной уникальности каждой Божественной Ипостаси. С сотериологической точки зрения утверждение абсолютной уникальности и Отца, и Сына, и Святого Духа было необходимо для преодоления дохристианских пантеистических представлений, ставящих во главу угла при рассмотрении вопроса о связи с божеством безличную природную детерминированность и ведущих, поэтому, к магическому пониманию религиозной жизни, к сосредоточению на формальном исполнении разного рода обрядов, ритуалов и правил. В этой ситуации необходимо было предельно ясно утвердить ту мысль, что для христиан природное единство с Богом является следствием устремленности человеческих личностей к личностным отношениям с Божественными Лицами.
В XX–XXI вв. абсолютная уникальность выделяется православными авторами в качестве одной из основных отличительных характеристик богословского понимания человеческих личностей, рассматриваемых ими как образ Лиц Божественных. При этом в богословских работах современных православных авторов личностная уникальность каждого человека выражается во всей онтологической полноте посредством таких святоотеческих характеристик лица (prÒswpon), или ипостаси (ØpÒstasij), как единственность, простота и необъемлемость никакими общими понятиями, включая категорию числа. Современные православные авторы указывают также на особое значение осознания полноты уникальности человека как личности не только для антропологии, но и для всего спектра гуманитарных наук. При этом в качестве главной причины трудностей и неудач секулярных социальных наук они называют их принципиальную установку на детерминирующий объективированный подход к человеку, нацеленный на изучение разного рода природных характеристик его бытия и не позволяющий, поэтому, учесть личностную уникальность каждого человека.