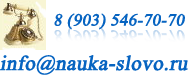Две особенности нравственных ценностей православия
Существуют две особенности, отличающие нравственные ценности Православия от представлений о нравственности подавляющего большинства других вероучений: признание полноценности свободной воли человека и указание на то, что только деятельным милосердием к нуждающимся можно стяжать святость. Напротив, в большинстве других вероучений свобода человека не признается, а святость стяжается неким «волшебным», чудесным образом. Следствием этого является противопоставление «наших святых» и «не-наших грешников», а также противопоставление «мира сего» и «Царства Небесного», как двух противоположных и несовместимых понятий.
К сожалению, ясного представления о нравственных ценностях Православия у нашего православного народа не было уже давно, поэтому, чтобы они присутствовали в обществе, их нужно формировать. В начале 2007 года Фонд Общественного Мнения опубликовал результаты общероссийского опроса о том, как мы понимаем слово «духовность» (1). Выяснилось, что в нашем обществе существует 4 разных понимания термина «духовность».
20% - слово «духовность» слышали, но смыл его определить затрудняются
22% - смысл связан с неким «самопознанием», «внутренним деланием», «духовностью мыслей», «чем-то высоким, неземным», «гармонией внутреннего мира», «восприятием жизни»
25% смысл слова «духовность» тесно связан с религиозностью, с церковью, с храмом
11% - смысл слова связан с уровнем образования и культуры
22% - «равносильно нравственности», «доброта, помощь другим людям», «сострадание друг к другу», «духовность-это поступок по совести», «приоритет моральных ценностей перед материальными».
По мнению примерно половины людей, для которых «духовность» тесно связана с религиозностью (то есть 10% населения), в современном общества духовности стало больше, чем было в советское время, а большинство остальных групп, (около половины всех россиян), полагают, что духовности стало меньше. При этом разница в возрасте респондентов роли не играет. Все они указывают на то, что в обществе стало больше злобы, жестокости, цинизма, безразличия, равнодушия друг к другу, стало больше нищих, беспризорных, больных и преступников. На вопрос, что нужно делать для поднятия духовности, половина респондентов затруднилась с ответом, 9% предложили строить больше церквей, а остальные (около трети населения), указали на необходимость развития экономики, поднятия уровня жизни и развития образования и культуры.
Результат опроса показывает, что единого понимания нравственных ценностей в обществе по-прежнему нет, как и ясного понимания того, как эти ценности нужно воплощать в жизни.
Рассмотрим отличия нравственных ценностей Православия от других вероучений - традиционного ислама, нетрадиционного ислама, «нового» буддизма и протестантизма.
Нравственные ценности традиционного ислама от православных не отличаются: ислам признает наличие свободной воли у человека и, соответственно, его ответственность за свои поступки. Так же, как и Православие, ислам учит тому, что человек – не продукт животной эволюции, но сотворен «по образу Божию», то есть наделен свободой нравственного выбора между добром и злом, а после смерти он должен будет дать ответ о том, как он этим «талантом» распорядился. Таким образом, в главном нравственные ценности Православия и ислама – одинаковы, но в последнем, чтобы стяжать Божью милость, необходимо всю жизнь просить об этом Творца, подавать милостыню, помогать нуждающемся.
Нетрадиционный ислам, отрицая свободную волю человека, значительно упрощает путь спасения: «основой Ислама и первым, что предписано творениям, является свидетельство аш-шахада, «нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад - посланник Аллаха». Засвидетельствовав это, неверный становится мусульманином, а враг - любимым, и его кровь и имущество становятся свободными и неприкосновенными. И если это исходит от сердца, то человек приобретает веру» (2). Любое же сомнение или колебание лишает неприкосновенности имущество и жизнь человека, в то время, как «убежденный в (единственности Всевышнего) войдет в рай без отчета», при этом под «единственностью» подразумевается противопоставление всего «божественного» всему «мирскому». «Человек должен знать, что для полного уяснения и достижения (святости) человек обязан отречься от поклонения всему, кроме Аллаха. Ему должно быть известно, что приобщение к Аллаху равных, проявление к ним любви такой же, как к Аллаху, покорность им, как и Аллаху, а также труд во имя их, подобно труду во имя Аллаха, полностью противоречат смыслу формулы «нет божества, кроме Аллаха». Таким образом, вместо того, чтобы дополнить заповедь о любви к Богу «равной ей» заповедью о любви к людям, нетрадиционный ислам, наоборот, противопоставляет эти понятия и в этом видит весь секрет спасения.
Не менее «волшебный» путь к нравственному совершенству предлагает и «новейший буддизм», только его приверженцы должны быть убеждены в единственности и силе другой формулы: «только произнося фразу Нам-Мьохо-Ренге-Кьо, мы получаем больше наград, чем за все и прошлые и будущие наши существования. Вознаграждения за эту единственную практику равны вознаграждениям за все долгие суровые аскезы, которыми будды безжалостно испытывали себя» (3). По общепризнанным канонам ортодоксального буддизма достижение состояния просветления подобно изнурительному и долгому подъему на труднодоступную вершину отвесной скалы. Напротив, «новейший буддизм» школы Ничирена Дайшонина учит тому, что человек может обрести состояние просветления чудесным образом практически мгновенно, так как «буддийские боги, будды и бодхисаттвы слышат звуки чтения, ведь голос доносится до их слуха через вселенную, проникает одновременно в три состояния жизни — прошлое, настоящее и будущее, во все Десять Миров-состояний от темного Ада до светлой земли Будды»(4).
Протестанты также полагают, что свободная воля у человека отсутствует и поэтому «покаяние и вера выходят за рамки человеческих возможностей» (5). Нужно лишь с убежденностью произнести другую фразу, - о том, что Вы принимаете Христа, как своего личного спасителя. При этом человек может жить также как и раньше, но при этом по уровню праведности он становится равен Богу:«Благая Весть заключается в том, что Судья уже объявил нас невиновными, после чего ввел в Свою семью. ... Вас теперь никто не осудит за грехи, поскольку вы верующий. Это раз и навсегда решенный вопрос. Этот вопрос прочно утвержден в разуме Бога. В момент вашего спасения, зная все последующие грехи, которые вы совершите в своей жизни, Бог принял вас в Свою семью» (6). «Будь грешником, - писал Лютер, - и греши сильнее, но при этом веруй и радуйся во Христе, Который есть Победитель греха, смерти и мира. Довольно, что мы признаем Агнца, уничтожившего грехи мира; от Него не удалит нас грех, хотя бы мы тысячу раз в день любодействовали или умерщвляли» (7). Как и в других случаях единственное, что требуется – не сомневаться: «поскольку надежность - это сущность спасения, то уверенность должна субъективно поддерживаться в сердце христианина…Основная тактика сатаны - это стремление вызвать сомнение в том, что спасение обеспечено навсегда или в том, что оно реально в данном конкретном случае» (8).
Все эти вероучения, вместо того, чтобы соединять людей – разъединяют их, с одной стороны, противопоставляя любовь к Богу любви к людям, а с другой – деля людей по внешнему признаку: по приверженности к той или иной богословской теории, но отнюдь не по разнице в отношения к ближним. Для своего спасения, приверженцы этих богословских теорий вообще не нуждаются в ближних, для спасения им достаточно своих формул и теорий, другие люди им не нужны.
Однако Христос делал акцент именно на других: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас… Вы - друзья Мои, … Я уже не называю вас рабами…Сие заповедую вам, да любите друг друга.» (Ин 15,12-17). При этом Господь, в отличие от известного специалиста по диагностике кармы Лазарева, под словом «любовь» подразумевал не только «чувство любви», переживаемое в самом себе, но и его выражения в конкретных делах и поступках: «Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: «приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня» (Мф.25,34-35). Для того чтобы напоить страждущего, одеть раздетого и посетить больного не требуется вмешательства никаких сверхъестественных сил. Также в рамках человеческих возможностей в любую секунду своей жизни раскаяться в любом из своих грехов: даже такая безвыходная ситуация, как распятие на кресте, не лишила разбойника свободы выбора. Свобода личности по отношению ко всему и даже к своей собственной природе и всем ее свойствам - это и есть тот Образ Божий, который сокрыт в каждом из людей. При этом важна практическая помощь ближним. В частности, Иоанн Златоуст писал о «ревнующих только о духовном подвиге»: «Долг любви к ближним состоит в том, чтобы не от них принимать, но им давать. А это зависит от трудолюбия - чтобы не принимать (от других ничего) и не жить в праздности, но трудясь давать другим: «блаженнее давать, нежели принимать» (Деян. 20,35). И делати, говорит, своими руками. Итак, где пребывают ревнующие только о духовном подвиге? Видишь, как он отнял у них всякий предлог к извинению себя, сказавши: своими руками. Совершает ли кто руками пост? Всенощное бдение? Возлежание на голой земле? Конечно, никто не скажет этого; он говорит о труде духовном, потому что давать другим от своих трудов есть подвиг подлинно духовный, и ничего нет равного ему» (9). Процесс претворения в жизнь нравственных ценностей Православия был определен еще в апостольские времена. Как писал апостол Павел: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов» (Гал 6,2).
Не нравственность человека является следствием его приобщения к таинствам, а наоборот, условием приобщения к таинствам является нравственность. Это очень наглядно демонстрирует только в русском Православии сохранившийся обычай обязательной исповеди перед причастием. Смысл этой традиции не в том, что так проще стяжать «божественных энергий», а в том, чтобы напомнить человеку, что условием вхождения на трапезу Господню являются не деньги, здоровье, знания, амулет, знание Библии наизусть или «сверхъестественные способности» к чудотворению, а чистая совесть. Это очень важно – объяснить человеку, что сначала он должен раскаяться, а потом только приходить к Богу, а не наоборот.
Регулярное посещение церкви не делает само по себе человека святым. Иуда посещал церковь не реже других, и постился и все традиции соблюдал так, что апостолы даже не могли с уверенностью определить, кто же из них – предатель. Но даже ежедневное пребывание со Христом не повлияло на Иуду, как и ежедневное пребывание с Богом не уберегло Адама. Это зависит от самого человека, от его свободной воли. И второй момент, который отсюда следует – для того, чтобы приблизиться к Богу, не нужно пытаться Ему подражать в Его божественности и сверхъестественности. Богу нужно подражать в Его любви к людям. Охрана границ, лечение больных, строительство домов, преподавание в школе и даже выдача кредитов в банке – все это могут быть не чуть не менее духовные дела, чем ношение вериг и возлежание на земле в стенах отшельнической кельи. Это зависит от намерений человека его свободной воли, от того, ради себя любимого или ради других он это делает.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.www.fom.ru Выпуск 1-2 от 11 января 2007, опрошено 1500 респондентов в 100 населенных пунктах, статистическая погрешность < 3,6%.
2. Абдулваххаб М. Книга Единобожия. Гл. 5
3. Икеда Д. Сокровенный закон жизни и смерти. С. 73
4. Там же С.93
5. Эриксон М.Христианское Богословие. С. 790
6. Стэнли Ч. Руководство к христианской жизни. СПб 2004. С. 223
8. Мак-Артур. Толкование. Римлянам. С. 225
9. Златоуст И. Сочинения в 11 томах., изд. «Радонеж».Т.1, С.523
Шитенков Р.В. специалист отдела развития регионов ЗАО «Московский Международный банк»