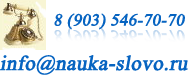О возможностях изучения отечественной культуры в курсах гуманитарных дисциплин в технических вузах
С.Г.Гладышева, кандидат философских наук, доцент МИРЭА
Значение гуманитарных дисциплин, в том числе, и в технических ВУЗах, чрезвычайно велико. Ведь через гуманитарное знание осуществляется трансляция культурного наследия, именно оно в наибольшей мере способствует формированию личности.
Цикл гуманитарных дисциплин представлен в современных технических ВУЗах достаточно широко: история, философия, культурология, социология, политология…данный список неполный, и варьируется в разных учебных заведениях. Необходимость изучения в рамках этих курсов отечественной духовной, интеллектуальной, художественной, политической культуры, казалось бы, не вызывает сомнений. Не требует особых доказательств тот факт, что усвоение богатства мировой культуры может и должно происходить не «на пустом месте», а через призму культуры собственной. Однако если посмотреть, каким образом представлена в изучаемых дисциплинах отечественная духовная и интеллектуальная традиция, то обнаруживается парадокс – в большинстве гуманитарных курсов, в том числе, в курсах философии и культурологи, она представлена минимально. При этом дисциплин, специально ориентированных на изучение отечественной мысли и культуры в технических ВУЗах, как правило, не представлено. Исключение составляют курсы русского языка и отечественной истории. Последний должен бы являться начальной ступенью, создающей основу для последующего цикла гуманитарных дисциплин, сообщающего способность ориентироваться не только в истории событий, но и в истории духовной, интеллектуальной. Однако формирование представлений студентов о своем отечестве курс истории не только начинает, но, как правило, и заканчивает. В следующих дисциплинах, начиная с философии, очевиден поворот «на запад»; на освоение отечественной мысли и культуры в соответствующих курсах отводится зачастую не более одного занятия.
Впрочем, парадоксальной данная ситуация выглядит, только если абстрагироваться от собственной истории. Если же обратиться к событиям менее чем столетней давности, то современное положение дел предстает закономерным следствием культурной революции начала прошлого века, попытки создания нового мира при сознательном разрыве с наследием прошлого. Понимание и преодоление последствий этого разрыва в постсоветское время происходит, но гораздо медленнее, чем политические или экономические изменения. В настоящее время разрабатываются и апробируются различные модели гуманитарного образования, в том числе, и вузовского. Не предлагая определенной модели, хотелось бы высказать некоторые соображения о возможном в современных условиях подходе к изучению отечественной философии и культуры в рамках сложившегося комплекса гуманитарных дисциплин.
На наш взгляд, главной задачей современного гуманитарного образования должно стать изучение и осмысление пути становления отечественного самосознания. Роль курсов зарубежной философии и культуры остается при этом чрезвычайно значительной. Но при этом их изучение должно происходить не в отрыве от указанной задачи, но способствовать ее решению. Значимость обращения к мировому наследию обусловлена тем, что становление отечественного самосознания происходило через усвоение внешних духовных и культурных источников.
В первую очередь, для России, как и для Западной Европы, таким определяющим источником является христианство. Поскольку, в отличие от Запада, для нее решающее значение имела не римско-католическая, а православная его ветвь, в гуманитарном цикле должно присутствовать несвойственное существующим курсам особое внимание к Византии, ее географии и истории, ее богословию, политике, художественным ценностям.
Затем, необходимо сообщать студентам знание о путях трансляции православия из Византии на Русь. Изучение исторических событий должно быть дополнено представлением о том, какие богословские, политические, художественные идеи были восприняты Киевской и Московской Русью из Византии, и какие самобытные черты приобретены. При этом как при изучении Византии, так при изучении Руси дело не должно ограничиваться общей характеристикой. Необходимо знакомство с персоналиями, изучение конкретных произведений, памятников архитектуры, иконописи и т.д.
Кроме того, желательно было бы при этом обозначать исторические параллели: событийные, духовные, художественные… Что было и кто был «на Востоке», в Византии и на Руси, когда на Западе был период Высокого Средневековья? «Параллели» окажутся пересекающимися, появится объемное представление о средневековой христианской цивилизации, и о том, каким образом Древняя Русь «вписывалась» в нее. Такую работу можно проделать не только относительно начального для отечественного самосознания периода, но и всех последующих.
Предлагаемый подход позволяет, во-первых, расширить привычные рамки историко-философского и культурологического горизонта за счет включения в него Византии, а во-вторых, «привязать» полученные знания, в том числе, и знания о «Западе» к российской «почве». В этом случае из абстрактно-информативных они превратятся в личностные, касающиеся судеб своего народа, своей семьи.
Не менее актуальным предлагаемый подход представляется применительно к изучению периода выхода Европы из Средневековья – культуры Ренессанса. Здесь также видится необходимым не ограничиваться формированием представлений об итальянском и Северном Возрождении и о его историко-географическом фоне, но обратиться также к Византии соответствующего периода – завершающего историю этого государства. Здесь тема западного ренессансного гуманизма требует дополнения темой менее известного гуманизма византийского. Который, в свою очередь, подлежит рассмотрению в контексте противостояния уже не «гуманизм-схоластика», а «гуманизм-исихазм». В византийском контексте открывается возможность взгляда на гуманизм и его метафизическое основание - неоплатонизм в непривычном ракурсе: гуманизм и флорентийская уния, ее роль в конфликте государства и церкви, в гибели Византии.
Тема «гибель Византии», в свою очередь, оказывается прелюдией к теме: «исторический выбор Руси». Взгляд на Россию сквозь призму указанной проблематики ставит вопрос о том, каким образом транслировались и наследовались в нашем Отечестве идеи и практика монахов-исихастов. Но также и о том, кем и как на Руси была обозначена дилемма монашеского и гуманистического идеалов. В принципе, раскрывая тему европейского гуманизма, необходимо обращение к тому, как гуманизм был представлен в отечественной мысли и культуре. Указание на отсутствие сколь-нибудь значительно представленного гуманистического комплекса идей в XIX-XVI вв. должно быть дополнено обозначением перспективы развития гуманистических представлений в отечественной интеллектуальной среде XVIII в.
В области художественной культуры следует не просто констатировать роль итальянских зодчих в создании множества выдающихся памятников архитектуры, в том числе, ансамбля московского Кремля, но обозначить их место в общеевропейском контексте эпохи Возрождения. Вновь обращаясь при этом к византийским истокам, обосновать очевидную специфику созданных ими в России культовых и крепостных построек; пояснить, что она вызвана влиянием не готической, а византийской архитектурной основы.(1)
Предлагаемый подход представляется еще более актуальным применительно к изучению философии и культуры Нового времени, где взаимосвязи России и Европы становятся более очевидными и отчетливыми. Характеристика западной мысли не должна ограничиваться кругом западных философов и других деятелей культуры. Вполне возможно проследить, каким образом деистические представления, а также идеи общественного договора, естественного права и др. находили выражение и применение в нашем Отечестве. Важно показать, каким образом комплекс идей, формировавшийся в социально-политических условиях, весьма отличных от российских – достаточно назвать победу Реформации и нарастание настроений, приведших к буржуазным революциям - усваивался и «вписывался» в православную духовную традицию. В этой связи многогранная интеллектуальная деятельность «петровской ученой дружины» должна быть представлена как важный аспект «поворота на Запад» и в то же время, как связующее звено между транслируемым западным просветительством и византийской духовностью. Фигура Феофана Прокоповича – иерарха православной Церкви и сторонника Томаса Гоббса – выглядит весьма показательно.
В целом, характеризуя западную культуру не как самодостаточную, а в преломлении российской ментальности, необходимо подчеркивать, что благодаря влиянию Византии, она, будучи глубоко усвоенной в интеллектуальной, художественной и других сферах российской общественной жизни, включая бытовую, никогда не становилась полностью «своей». Влияние Византийской традиции прослеживается в том, что она создавала дистанцию «свое-чужое», сообщала возможность оценки извне, критического отношения к нему. Что нашло выражение не только в позиции «славянофилов», но и «западников». В этой связи следует рассматривать не только влияние западной мысли на поворот ряда представителей отечественной интеллектуальной элиты XIX в. к духовным основам собственной культуры, но и на то, каким образом они сохранялись в период казалось бы, полного разрыва с ними, каким образом они присутствуют в современной действительности.
- См., например: Подъяпольский С.С. Деятельность итальянских мастеров на Руси и в других странах Европы в конце XV—начале XVI века. // В кн.: Советское искусствознание. М., 1986. №20. С. 62-91